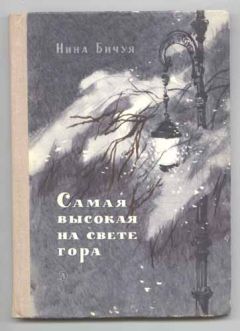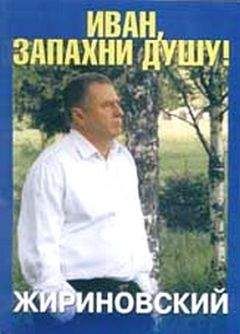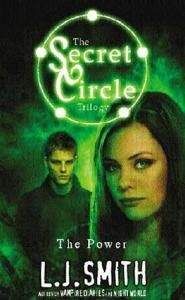Владимир Ляленков - Армия без погон
Я прошу Федосеева сесть рядом. Он родом из Тамбовской области, до войны в школу не ходил, пас скот. Потом наступила война и уж совсем было не до ученья. А после ему стыдно было говорить людям, что он неграмотный, и никому не говорил. Читать научился сам кое-как, буквы знает. Но пишет очень плохо. А в армии служил? Служил. Там, когда нужно, ребята за меня писали…
Вот еще один экземпляр, думаю я, ну и здоров, черт возьми. «И везде удавалось скрыть свою неграмотность?» — «Везде, ха-ха-ха! Везде, Борис Дмитрич! Я стыдился, дурак. А теперь, вот когда некуда деться, и стыд пропал…»
— Машина готова, можно ехать, — говорит вошедший шофер, — а то ночь застанет в дороге.
Мы едем в Клинцы, где чикинцы ждут нас с нетерпением. Получив деньги, они спешат в магазин. Вечером я из деревни ни шагу. Чикинцы и девчата танцуют возле амбара под гармошку. Я стою среди них, потом иду к себе и постоянно прислушиваюсь — не доносится ли шум драки? У каждого из них имеется пика — остро отточенный медицинский скальпель, либо стальная пластинка. Оружие свое они тщательно скрывают от меня, божатся, клянутся, что у них ничего нет. Как это ни странно, но между деревенскими ребятами и чикинцами существует скрытая вражда. Здесь живет легенда о жестокой драке, случившейся три года назад, когда впервые приехали строители в Тутошино. Завязалась драка из-за девчат. Молодежь окружающих деревенек объединилась. Дрались камнями, топорами, свинчатками. Захватывали пленных, выкупали, обменивались ими. Генеральное сражение произошло на берегу озера. Закончилось оно убийством одного из деревенских, нагрянула новогорская милиция, кое-как навела порядок.
Звуки гармошки на некоторое время затихают. Вот слышен говор, смех; кто-то затянул песню. Гурьбой чикинцы проходят под окном, они направились в Тутошино…
Глава восемнадцатая
Приходит очередное воскресенье. Я колю во дворе дрова, складываю их в поленницу.
— Фють, фють, — раздается свист за моей спиной.
Оглядываюсь — Маердсон. Он в белой рубашке, в светлых брюках, скалит в улыбке свои белые ровные зубы. От неожиданности я даже краснею немного.
— Жора, ты как сюда попал?
— Кончай крестьянствовать, пошли на озеро. Все наши приехали, новогорские. Народу тьма. Девчата тоже там, меня за тобой погнали.
Я давно не видел друзей, спрашиваю, как дела.
— Что дела, дела идут, никуда не денутся, — отмахивается Маердсон, — на берегу там одна, откуда она приехала, понятия не имею… Попа, грудь, а глаза — м-м, — стонет он, закатывая глаза, — все отдал бы, и мало было б…
В кустах стоят машины, а весь этот берег усеян людьми. Новогорский горторг здесь, еще какие-то организации. Вот наш трест. Здравствуйте. Привет колхознику! Картавин, приехали к тебе в гости! Вон Жиронкина. Она знает, что у нее фигура великолепна, даже в общежитии любит как бы случайно и вскрикнув мелькнуть перед мужским глазом полуобнаженной. Она где-то успела загореть. В стороне от всех прохаживается у самой воды. Трусики уж больно узки. «Привет, Рита!» — «Ой, колхозничек, какой ты стал! Девчонки, посмотрите на него, он черный, как негр!» — «Здравствуй, Козловская, Машенька. Здравствуй. Эй ты, библиотекарь, здоров!» Латков отрывается от книги, подает руку.
— Скотоводу привет.
Девчата тарахтят. Без одежды Козловская кажется особенно худенькой, стройной, как девочка, и непохоже, что она побывала замужем, вот только морщинки у глаз. В такой обстановке мы никогда не встречались. Все они мне кажутся немного другими, чуть-чуть незнакомыми. Алябьева, всегда ласковая со всеми, добрая, уже возится в сумках.
— Борис, на гостинец, — говорит она.
— Яблоко? Бог ты мой, сто лет не ел яблок!
— Это болгарское.
— Господи, кто это, ребята? — Козловская даже присаживается на корточки, с ужасом смотрит на заведующего Новогорским горторгом Бугача. Громадный, заплывший жиром. Вывалив над трусами брюхо, он движется косолапо у самой воды, вдруг валится в нее, барахтается, поднимая волны. И страшно, дико рычит от удовольствия. А над резвящимися горторговскими женщинами возвышается розовая колонна жира — продавщица из продуктового магазина. Она стоит неподвижно, уперев одну руку в бок, другой подносит что-то ко рту и лениво жует. Стайка ребятишек задержалась позади нее, изумленными глазенками смотрят на диво. Полковник, успев уже продать приезжим рыбакам рыбу, натолкнулся на колонну, огибая ее, несколько раз оборачивается.
— Полковник, нет ли рыбы? — кричу я.
Он подбегает семеня. Присел и осклабился.
— Кто это такая, Борис? Едрить твою в доску, ее надо под ястребцовского жеребца подпустить!
Все искупались, девчата организовали закуску.
— Где же Мазин? — удивляюсь я.
— Он совсем испортился, — говорит Алябьева, — совсем.
— Он на другом фронте, — подсказывает Латков.
— И с кем спутался! — Маша подает мне бутерброд. — А слушать о ней ничего не хочет.
— Кто она?
— А, не стоит говорить. Везет же таким бабам! С Груздевым жила, с шофером из а-тэ-ка жила. Да всех не пересчитаешь. И вот Петька втюрился. Глупо.
— Черезов приехал, — сообщает Латков.
— Николай? Когда? Он мне ничего не писал. Как он?
— Плохо.
— Он не ходит, — сказала Рита, — все-таки что-то с позвоночником. Ездит в коляске. Его санитар привез.
— Жалко парня. Он красивый. Все девки наши были влюблены в него.
Так, так… Сегодня уеду в Кедринск, думаю я.
— Я был у него, — говорит Латков, — держится ничего, бодро. Говорит, что через год, полтора встанет на ноги. Врачи ему так сказали.
— Врачи все врут. В таких случаях они всегда врут. Человек ждет, ждет, потом свыкается со своим положением и живет. Для этого и врут.
— Я бы покончил с собой, — заявляет Маердсон.
— Полюбуйтесь, — говорит Латков. Он указывает глазами на компанию, где сидит управляющий. Худое тело старика нашего бело, он в длинных трусах. Перед ним крутится, то приседая, то вскакивая, умильно улыбаясь, начальник отдела труда и зарплаты Позднышев.
— Сволочь, — Латков морщится и отворачивается.
Этот Позднышев бездельничает целыми днями в своем кабинете. Когда к нему приходит с вопросом рабочий, он поджимает губы, сводит брови. Откидывается на стуле и сурово спрашивает:
— Ну, что у вас?
А когда его вызывает начальство, его будто током бьет. Мельком смотрится в зеркальце, которое носит в кармане. И к начальнику входит на цыпочках. Черт знает что!
— Мальчики, я хочу малины.
— Сейчас пойдем, Рита.
Потом мы идем в лес, в густой малинник.
— А медведи здесь есть, Борис? — Рита рядом со мной.
— Есть. Много. Они страшно злые.
— Ой, смотри, сколько малины! Иди сюда…
«В какой я деревне живу». — «Близко?» — «Рядом». — «Ты в избе живешь? Можно посмотреть твое жилище?» — «Конечно. Пойдем». — «Это не очень далеко?» — «Да нет же, вот здесь за дорогой, там овраг, ручей и деревня. Хозяйка одинока, и сегодня она на сенокосе». — «Она молода?» — «Очень. Ей шестьдесят лет». — «Ха-ха! Ты скучал здесь? Правда, скучал?» — «Сюда, сюда сворачивай… Вот и деревня… Моя изба. Проходите, мадам, прошу вас…» — «Господи, как ты здесь живешь? Никогда не была в избе. Окошечки. Печки. Это что?» — «Умывальник». — «Боже мой, сколько мух! И темно… Кто вот здесь спит?» Я взял ее на руки и положил на кровать… «Здесь жестко. Это с непривычки. Ты скучал обо мне?» — «Очень». — «Войти может кто-нибудь?» — «Нет, я запер дверь.» — «Ох, Боренька, подожди, вот так. Милый мой…»
Я стою у окна. На дороге прыгают воробьи. Сколько их? Один, два, три, четыре…
— Борис, ну, может, так… Ведь многие сходятся и живут. А любовь потом приходит…
— Рита…
— Ну, не буду, не буду. Иди сюда. Сегодня мы последний раз. встретились. Иди сюда. Я уезжаю.
— Куда?
— Это неважно. Сначала на юг, в Крым съезжу, а там видно будет…
— Ты хороший, Борис, наклонись, — она провела рукой по моим волосам, — ты будешь вспоминать меня? Будешь, я знаю…
Вскоре мы уходим к озеру. Поздно вечером уезжаем в Кедринск.
Квартира Николая на втором этаже. Свет в окне горит. Дверь не закрыта. Он в коляске, которая движется при помощи ручного рычага. Мы здороваемся, как будто ничего не случилось. Я ставлю на стол бутылку, закуски.
— Тебе можно, Николай?
— Вполне.
Он при помощи рук, одним рывком взбирается на стул. Поправляет ноги руками.
— Почему ты мне ничего не писал об этом?
— Я сам не знал, — усмехается он, — будь здоров!
Я шел к нему и заранее бодрился, чтобы и разговаривая с Николаем быть бодрым. Но он коротко и живо говорит о себе: в позвоночнике потревожен нерв, через год там должно набраться какой-то жидкости, потом зарастет, и все наладится.
— А пока, — он задирает штанины и показывает кости, обтянутые кожей. И набрасывается на меня с вопросами о деревне. Он внимательно слушает, сидя на стуле или перебирается в коляску. Покачивая головой, неслышно катается, то и дело задавая вопросы. Когда я рассказал, что и Баранова заставили прошедшей весной посеять кукурузу и на площади в девяносто гектаров ничего не выросло, он тихо произносит: