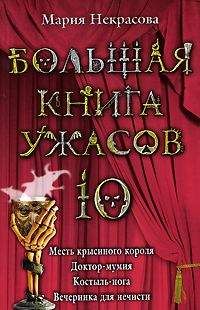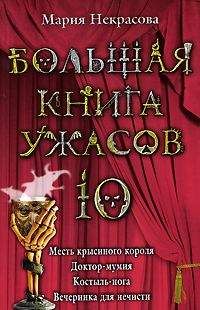Гвин Томас - Всё изменяет тебе
— Мы даже повесить друг друга умеем, любя! Не тужите, миссис Брайер. У меня пока не было случая потолковать по — настоящему с Джоном Саймоном. Думается мне, он еще даже не догадывается, что на Севере у нас с ним появился собственный уголок, целиком наш, и мы можем распоряжаться им, как хотим. Джон Саймон сейчас будто в каком — то густом тумане, он только и думает, что о горестях Мунли. Я не хочу сказать, что клубок мунлий- ских бед не заслуживает внимания и что философам не стоит призадуматься над ними, но в голове Джона Саймона найдется местечко и для кое — каких других вещей, получше тумана. Кэтрин забудет его, а сам он выкинет из головы Пенбори. И для вашего Дэви еще настанут счастливые денечки!
Мы услышали, как пришла Кэтрин и стала раскладывать покупки по стенным полочкам на террасе. Миссис Брайер улыбнулась мне, как бы обрадованная моей уверенностью, что я могу раздобыть какое — то волшебное зелье и отогнать от нее все мрачные тени. Улыбка ее подняла меня в собственных глазах, и, гордо откинув голову на шаль, я постарался придать себе к моменту появления Кэтрин самый что ни на есть трагический и страдальческий вид.
Она вошла торопливо и еще более взволнованная, чем во время нашей предыдущей встречи.
— Льюис Эндрюс сказал мне, что вы ранены. Я так испугалась, что поспешила домой.
— Пустяки, пустяки. На меня напали двое: какой — то человек и некое подобие человека. А рыбы — то мне все же жалко! Уж очень хороша была! Так и таяла бы, верно, во рту.
Миссис Брайер вышла из кухни под тем предлогом, что уже время позаботиться о свиньях. Кэтрин подошла ко мне вплотную и сказала:
— Льюис Эндрюс говорит, что один из тех, кто напал на вас, и есть тот, кого видели в Мунли в день убийства Сэма Баньона.
— А вы тоже верите в эти россказни?
— Есть вещи, о которых и разговаривать не к чему, до того они ясны. Ясно, например, что Сэм Баньон не сам угодил в ту расщелину.
— Но Бледжли не единственный беспалый человек в мире.
— Знаю. Зато Плиммон и Пенбори — добрые друзья. Так что — быть беде.
— Да ведь теперь всем все известно о Бледжли, вы и ваши уже можете быть начеку!
— Уберечь одного — другого человека от Бледжли, разумеется, нужно. Но суть не только в этом. Вам. думается, известно, что дела Пенбори идут все хуже и хуже — уж очень редки стали заказы на железные изделия. Придет день, когда и Плиммону уже не нужны будут ограды для его поместья. Старики говорят, будто с самого окончания великой войны с Францией дела никак не могут наладиться. И Пенбори надоело слушать, как ропщут рабочие на его заводах. Он считает, что рабочим полагается терпеть. Он — то, мол, терпит. Вот он и распространяет слухи, будто собирается гасить домны, чтобы поучить рабочих уму — разуму.
— Чем же жить рабочим, если погаснут домны? Земли — то у них не осталось. Своих холопов Плиммон обязывает убивать всякого, кто посягнет хоть на малую толику продуктов с его стола.
— Здешние люди слабохарактерны и тупы. Мир, война, достаток, голод — им теперь как будто все равно. Они готовы проглотить любую корочку, которую Пенбори подбросит им. А если начнутся беспорядки, он их уничтожит поодиночке, одного за другим, и для него это будет так же просто, как для Плиммона — заманить своих лисиц в капкан. Как вы думаете: кто попадется первый?
— Джон Саймон Адамс.
— Верно. Ничего путного Джону Саймону здесь не дождаться, если только дело дойдет до открытого боя между ним и Пенбори. Здешние люди податливы, как бараны. Я — то, пожалуй, знаю их даже лучше, чем Джон Саймон. Ведь я дольше живу здесь. На время они повернутся лицом к Джону Саймону — когда он пристыдит их, когда они поймут, как много они потеряли и с чем примирились. А потом Боуэн начнет заговаривать им зубы и петь о царстве божием, и они изрыгнут из своей ДУШИ Джона Саймона, как исчадие ада. И поползут они не к тому, кто мечтает о великой красоте милосердия, а к тому, у кого хлеб в корзинке. Джон Саймон понимает эти вещи иначе, чем я, он готов на любой риск, лишь бы сшибиться с Пенбори. А я, если бы могла, не дала бы
Джону Саймону растратить свою жизнь попусту. Уведите вы его из Мунли, арфист.
— Я предлагал ему уехать. И зачем он только вздумал хоть на дюйм пустить корни в этом поселке? Вчера ночью у нас был разговор. Мы ведь с ним, знаете, как настоящие братья. Говорили и о вас. Вы любите его, правда?
— Если бы не любовь, я бы даже рада была поглядеть, как он разбивает себе голову о трон Пенбори…
— Так почему бы вам обоим не уехать вместе со мной? Миссис Брайер рассказала мне, как оно было. Вы остались одна как перст, и она приютила вас. Горе, как видно, — 'порядком вас озлобило, это слышится в каждом вашем слове. Из Пенбори вы сделали себе этакого домашнего злого духа. А кто вас пригрел, к тем вы почувствовали благодарность. Одного только вида этого несчастного Дэви, который по — собачьи скулит и не спускает с вас глаз, уже было достаточно; чувство жалости загорелось в вас, как солома. С вашей стороны было, конечно, благородно выйти за него замуж. Благородно, но глупо. Так же глупо, как из жалости к этим злосчастным простакам— тем, что прозябают вокруг металлургических заводов, — дать распять себя на кресте, на большом кресте, да так, чтоб этот фабрикант Пенбори еще заставил бы вас заплатить за гвозди. Да, благородно, но глупо…
— Я не могу покинуть Дэви. Он же младенец. Но дело даже не столько в нем, сколько в его матери. Я — счастье Дэви, и за это счастье она будет драться, пока кто — нибудь из нас не упадет.
— А если я увезу отсюда Джона Саймона? Что тогда? Разве V это решение вопроса? Как же ваше чувство к нему и его — к вам?.. Любовь небось не вышвырнешь в канаву только потому, что двое каких — то обездоленных и растерянных людей уцепились за вас своими холодеющими пальцами и всеми силами стараются век держать вас подле себя — для них, видите ли, так спокойнее.
— Как вы говорите об этом, арфист!.. Это совсем не так. Каждый прожитый день — как поле, на котором вырастают новые стебли; а между мною и Дэви или его матерью много таких прожитых дней, и они связали нас. С Дэви у меня, конечно, не такие отношения, какие бывают между мужем и женой. Какой он мужчина? И все же Джону Саймону придется потерпеть. Дэви часто болеет, он чахнет от тоски. Не жилец он. Что — нибудь может случиться, кто его знает, что…
— Да мы — то сами и есть это «что — нибудь», Кэтрин. Под лежачий камень и вода не течет. Миссис Брайер говорила, что Дэви готов умереть за Джона Саймона.
Ее лицо передернуло, точно от боли.
— Одиночество сделало вас жестоким, арфист.
— Я просто ничем не связан. Мои глаза видят гораздо дальше, чем ваши.
— Да, чуть не забыла. В поселке ко мне подошел Лимюэл и сказал, чтоб я непременно передала вам приглашение мистера Пенбори. Он желает, чтобы вы завтра вечером явились к нему домой. У него будут гости к обеду, и, как сказал Лимюэл, ему угодно послушать немного музыки.
— Гости к обеду? Что это он затевает? Уж не собирается ли поспать за столом?
— Поспать?
— Да. Я еще не успел рассказать вам. Вчера ночью у меня был долгий разговор с Пенбори. Он, как и Джон Саймон, до самой макушки начинен разными бреднями. Так вот, он хочет, чтобы я утешил и излечил его от бессонницы. Чтобы я играл ему в полночь старинные народные песни.
— Что ж, вы пойдете к нему?
На лице Кэтрин, задавшей мне этот вопрос, отразилось такое неистовое презрение, что меня будто камнем ударило и сразу отбило охоту шутить.
— Может быть, я узнаю что — нибудь нужное, — сказал я.
— В таком случае желаю Пенбори, чтобы каждая из ваших песен застряла в его чванливой глотке! Холопскую задачу вы взяли на себя, арфист: бренчать по струнам для такого человека!
— В этих делах, Кэтрин, я не особенно чувствителен. Есть на свете люди, которых мне хотелось бы видеть невредимыми — начиная, например, с вас, Джона Саймона и меня самого. И кроме того, я ненавижу железо, копоть всякие столкновения, которые нельзя уладить просто и по — хорошему; они медленно, но верно портят жизнь, а души размывают мягко и крадучись, как дождь.
Я встал и посмотрел в окно. По склону горы, по направлению к дому Брайеров, шел Дэви. Как всегда, куртка на нем была нараспашку; его лицо сияло радостью и удовлетворением от целого дня тяжелой работы на погрузке леса; глаза его, большие и синие, глядели бессмысленно. Я отвернулся от окна. Кэтрин ставила на притухший очаг кастрюлю, с такой силой прижавшись лбом к деревянной облицовке камина, покоробленной и прокопченной, что я мучительно почувствовал, как все ее тело сжалось в комок.
7
Вот я опять в кухне пенборовского дома. С шелестом и хрустом накрахмаленных одеяний Джабец и кухарка Агнес носятся взад и вперед вокруг огромного стола, загроможденного всевозможной снедью, которая скоро будет отнесена в парадную столовую, где Пенбори со своими друзьями примутся уничтожать ее. Я же в ожидании моего номера в этом тщательно разработанном концерте пока что блистаю сверхъестественной, неслыханной элегантностью.