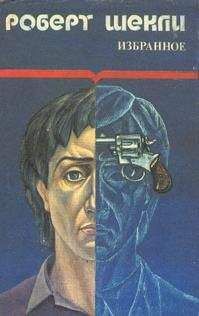Явдат Ильясов - Пятнистая смерть
И все же, думая об Утане, царь не смог удержаться от торжествующей усмешки. В груди загорелся огонь давно угасшего юношеского тщеславия.
Эй, люди! Вот — я, а вот — вы. Я один, а вас много. Я стар, а вы молоды, проворны и опасны.
И все-таки я езжу в колеснице, а вам запрещено в нее садиться.
И все-таки я ношу пурпурный плащ, а вам запрещено к нему прикасаться.
И все-таки я иду, куда хочу, а вам запрещено входить ко мне без доклада.
И все-таки я говорю, когда хочу, а вы сидите, томитесь, терпеливо смотрите мне в глаза и не можете раскрыть рта, пока я не раскрою свой. И не смеете при мне ни чихнуть, ни кашлянуть, ни плюнуть.
Я — царь.
Во дворе показался мальчишка в узорчатых шароварах — длинный, худой, вертлявый. Должно быть, младший сын или племянник Виштаспы. Он тащил под мышкой медный таз, моток тонкой веревки и короткую палку.
— Итак, они избрали женщину? — лениво спросил Куруш, наблюдая за мальчишкой.
— Да! — с готовностью кивнул Гау-Барува.
Царь снова усмехнулся, но теперь уже холодно, жестковато:
— Говорят, Томруз хороша. Не лгут?
— Хороша, — подтвердил Гау-Барува. — Я беседовал с греком, что приехал из Милета. Он видел Томруз на совете, очень понравилась. А греки разбираются в женской красоте. Вон каких пригожих богинь вытесывают из мрамора.
Мальчишка привязал один конец бечевки к палке. Подпер палкой косо поставленный таз, насыпал на землю пшеницы, взял бечевку за другой конец, отошел подальше и спрятался под кустом шиповника.
В глазах царя зажглась искра угрюмого веселья.
— Ага! Хм… — Куруш с той же недоброй усмешкой пригладил красную, свежевыкрашенную хной курчавую бороду. Цвет хны напоминал сукровицу. Казалось, она широкой полосой текла у царя изо рта. — Я, видно, голову потеряю из-за этой Томруз! Ночей не сплю. Не жениться ли мне, Гау-Барува, на сакской царице?
Виштаспа, Утана и Крез переглянулись. Гау-Барува понимающе улыбнулся.
— Почему бы нет? — сказал с расстановкой, врастяжку, рыжий придворный. — Женщина в соку, пригожа. Ей нужен муж. К тому ж у Томруз… э-э… такое…
Он приостановился. Стоит ли раскрывать тайный замысел до конца? Тут чужие.
— Приданое, — подсказал Куруш советнику.
— Приданое! — воодушевленно подхватил Гау-Барува. — Такое богатое приданое. Я женился бы. А ты, Утана?
— Я? — Утана почесал бровь, густую, как у иного молодца ус. — Хватит с меня имеющихся жен. А захочу новую — разве нет на свете другой женщины, кроме сорокалетней неумытой сакской бабы? У нас, в Парсе, красивых невест хоть отбавляй.
Царь нахмурился. Проклятый купец. Женить бы тебя на плахе.
Он представил себе Иштувегу, деда по матери, которого, победив, заточил на время в темницу, затем отослал на восток и приказал его там тайно убить.
С ехидных губ престарелого мада срывался злорадный смех.
«Что, внук? — мстительно шептал Иштувегу. — Не силой персидского оружия сразил ты меня, а с помощью самих же мадов, богатых старейшин, не желавших терпеть над собой мою единодержавную власть. Не так ли? А теперь и ты, стремящийся упорно, как голодный мул — к стойлу, к той же единодержавной власти, столкнулся со скрытым, но мощным, словно донное течение, противодействием персидской родовой верхушки.
Погоди, однажды темной ночью ловкач Утана и его друзья свяжут и выдадут внука какому-нибудь удачливому пройдохе, как мады выдали внуку деда».
«Прежде чем он свяжет меня, я его зарежу», — возразил мысленно Куруш предку.
«Не зарежешь! Зарежешь одного из вождей десяти персидских племен оставшиеся девять убьют тебя. Они не глупы. Поймут: кто уничтожил одного из их своры, может истребить всех. Так-то, дорогой и любимый внук! Терпи, хочешь не хочешь».
«Я не спущу с Утаны глаз, буду держать его при себе с помощью всяких уловок. Знай, мой добрый дед — я приручу строптивого Утану».
Верный Гау-Барува чутко, как пес — настроение хозяина, уловил недовольство царя Утаной и напустился на добродушного торговца:
— Ты умен, Утана, однако себялюбив, как женщина! Судьба Парсы нисколько тебя не заботит. Лишь бы Утане благоденствовать, а государство хоть развались. Неумытая, говоришь? Сорокалетняя, говоришь? Баба, говоришь?.. Пусть ей будет сто лет! Пусть мажется вместо белил и румян черной грязью! «Какое нам дело до прачек Рея, чисто они стирают или нечисто?» Разве речь о самой Томруз?
К ловушке, которую устроил мальчишка, подлетела синица. Мокроносый птицелов замер, широко раскрыв рот. Синица, поскакивая боком, с опаской приближалась к зерну.
Царь вытянул шею.
— Не о Томруз речь, — продолжал Гау-Барува. — Нужно обезопасить восточный рубеж, замирить этих разбойных, вечно голодных саков, дружбу с ними наладить, чтоб не ударили в спину. Понятно?
Дзанг!.. Юный охотник дернул за веревку. Палка выскочила из-под таза, таз со звоном упал на землю и прихлопнул синицу. Мальчишка испустил визг ликования и бросился к ловушке.
Царь откинулся назад, облегченно перевел дух и скупо улыбнулся. Попалась.
— А-а, — наивно протянул Утана. — Вот оно что. Ну, хорошо. Пусть государь женится. Только, — Утана обвел присутствующих глуповатым взглядом и, незаметно для других, подмигнул сонному Крезу, — согласится ли Томруз выйти замуж за чужого царя? Не получилось бы, как в пословице: «В доме невесты еще ничего не слышно, а у жениха уже музыка и танцы».
Птицелов осторожно сунул руку под таз. Пошарил под ним, прикусив губу от нетерпения, коротко вскрикнул и, торжествуя, извлек из ловушки добычу, зажатую в кулаке.
— Надо постараться, чтоб согласилась! — Куруш выпрямился. Живо подтянулись Виштаспа, Крез, Гау-Барува. Утана снял с лица, как повязку, дурашливое выражение. — Вот и поспособствуешь ты мне в этом деле, Утана! Оставишь караван в Марге [9] и вместе с Гау-Барувой поедешь за Аранху сватать Томруз. Думаю, не сочтет мой брат Утана маленькую услугу за тяжкий труд?
Гау-Барува раскраснелся от удовольствия. Так! Отвертись, гордец.
Утана, тихий и смирный, прикинул что-то в уме, почесывая левую бровь и облизывая языком правый уголок полураскрытого рта. В разноцветных глазах, черном и голубом, искрой мелькнула удачная мысль. Он встряхнул головой — опять лениво-веселый, довольный собой и жизнью.
— Оказать услугу тебе — великое счастье, пресветлый государь! Я готов. Мы с Гау-Барувой завтра же выйдем в путь.
Помолчав, он добавил, будто между прочим, словно говорил о пустяке:
— До сих пор я торговал с аранхскими саками через посредников маргских. Они же, чтоб им пропасть, обдирают бедных персидских купцов хлеще истинных грабителей с дороги. Зачем оставлять караван в Марге? Я поведу его за Аранху, поскольку выпал столь удачный случай. Заодно со сватовством потягаемся с такими-сякими саками, посмотрим, что из этого выйдет…
И Утана невинными глазами поглядел на царя.
Гау-Барува застонал от ярости. О неисправимый! Но царь, против ожидания Гау-Барувы, был доволен.
Мальчишка дергал синицу за хвост, стараясь выдрать ей перья.
Куруш одобрительно покачивал головой. Ага! Это — хорошо. Дело, им задуманное, совпало с нуждою Утаны? Очень хорошо. Купец, стремясь выгодно сбыть горшки, ловко уладит и сватовство. Крупный караван привлечет саков, подкупит и смягчит сердце Томруз.
— Ай! — вскрикнул птицелов. Синица не выдержала, затрепыхалась, рванулась изо всех своих крохотных сил и — упорхнула.
Мальчишка противно заныл.
Куруш мрачно насупился. Он отвернулся от неудачливого охотника и сказал холодно:
— Я тоже… я выеду с вами и остановлюсь в Ниссайе. Чтоб находиться поближе к Аранхе.
Когда могучий тигр медлительно и грозно выступает по охотничьей тропе, зверем, исполненным силы, кажется и воровато семенящий сзади, чуть сбоку, неизменный спутник тигра — желтый шакал. Ему как бы передается частица мощи, исходящей от тигра. На него простирается доля страха и почтения, с которыми глядит трепещущая чангала на полосатого хозяина зарослей.
Но стоит шакалу остаться одному, он сразу же становится самим собой мелким хищником, грязным, хитрым, трусливым и злобным животным, распространяющим вокруг себя зловоние.
До гибели Белого отца Дато слыл умным, спокойным, рассудительным стариком, знатоком древних обычаев, человеком тихим и скромным — част света, излучаемого вождем, заметно отражалась на сопровождавшем его всегда и повсюду невзрачном двойнике.
Но вот источник света погас, и перед саками предстало существо темное, уродливое и дурное, обуреваемое завистью и местью.
Со дня совета Дато не мог, как говорится, ни спать, ни есть, ни встать, ни сесть — охал, кряхтел, стонал, ругался, ворочался на пыльном черном войлоке, исступленно мечтая о войлоке чистом и белом. И так извелся бедняга, что высох, как труп, зарытый в песок. Обманули Дато. Обокрали Дато. Обидели несчастного Дато.