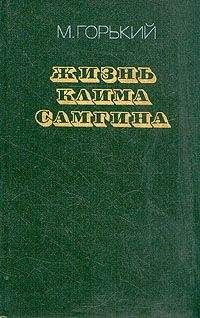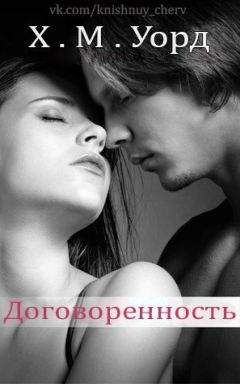Анатолий Знаменский - Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая
— Как — Совет... закрыл?
— А так. Есть вроде такой приказ у них с Козлова: Советы на Дону закрыть, открыть ревкомы. И присылают к нам в Белогорку этого ревкома, и что бы ты думал, чистого австрияка, звать Мельхиор, из пленных, ни хрена по-русски не смыслит. Этому, конешно, плевать, будем мы живы до будущего урожая чи нет. Хлебушек вымели до того, что и на семена нету! Вот какая беда, Филипп Кузьмич.
Миронов верил и не верил сказанному. Слишком уж густо надымил раненый Воропаев.
— Еще что? — спросил Миронов. Неудобно было проявить какое-то незнание в этом «тыловом» деле.
— А теперь еще какой-то агитпроп. Вроде они с агитпоезда «Красный казак», но вряд ли... Потому что не нашу веру проповедуют. Какой-то блуд! Выпускают какого-то хохла-балагура, и он читает верующим про святое писание — с матюками! — Воропаев густо кашлянул, нахохлился важно, побурчал что-то, встопорщив усы, изображая лектора, и выставил большой палец: — Во це — ваш бог Саваох, тот самый, с билой великой бородой, що с пророком Ильей раскатував на тройке, пока большевики не реквизировали ту тройку!.. А о це, — выставил указательный палец, — бог-сын, той самый байстрюк и выблядок, що вы зовете Исус, а о це, — дошла очередь и до среднего пальца, — бог-дух святой, якой от старух подымается, колы воны рачки стоят, поклоны бьют, дуры старый! И вот вам, дуракам, теперь тут все, — сложил толстые, обкуренные пальцы Воропаев в огромную дулю, — все, говорит, тут: и бог-отец, и бог-сын, и дух святой! Троица, той самый бардак, куда ходили буржуазны сволочи ко святым девам... Такая вот лекция агитпропа, Кузьмич.
Воропаев страдательно вздохнул и добавил от себя:
— Старухи плюются, комсомол до слез хохочет, бывший председатель Совета глаз не показывает. Мельхиор ни хрена не смыслит не токо по-хохлачьи, но и по русски. Такая идет потеха, что и до греха недалеко. А тут еще лектор Гурманист! Придумают же, черти, фамилию: Гурманист! Сам маленький, кудлатый, но горластый сказать, и знаешь, что говорит по хуторам!
Миронов уже не ждал, конечно, ничего хорошего.
— Говорит: женщина от мужа полностью свободна, чего хочет, то и делает. По новым порядкам вроде могёт без зазрения совести под каждого встречного ложиться, большой беды нету.
— Чего-то вы там перепутали, — не сдержался Миронов. — Не так, наверно, говорилось!
— Думали мы тоже, что неясность какая, а тут вылазит наш пастух Шалашонок да и говорит: «А на кой хрен ты, лектор, к нам с этим приехал? Валяй, у себя в городе этую коммунию и заваривай, а нам она без надобностев!» Ну, так его тут же притворили под арест. Вот те и ошибка, Кузьмич.
— Так и посадили?
— А я что — брехать буду? Кому-кому, а уж не Миронову! Посадили, точно. Только он, правда, ночью подрыл стенку в сарае да и дал тягу. А он — вечный батрак, бездомный... Вот и скажи, Филипп Кузьмич, чего такое там деется?
Пришлось угостить Воропаева хорошим, генеральским табаком и отправить на отдых, пообещав связаться с политотделом армии, узнать и посоветоваться, что там думают обо всех этих новостях. Заодно поговорить с Ковалевым и Медведовским.
Воропаев пошел уже к двери, а потом вернулся, налегая на костыль.
— Я чего вскипятился-то, Филипп Кузьмич, — хмуро объяснил он. — Я к тому, что многие все это в большую обиду принимают и начинают уже нас, красногвардию, поругивать: «Чужих, мол, в дом запускаете!» И может всяко получиться, Кузьмич. Не надо б!
— Ты иди пока к Николаю Кондратьичу, он тебе отведет в лазарете хозяйственную должность, и — выздоравливай. А мы этим займемся, — сказал Миронов строго и озабоченно.
Проводив ходока, заново перечитал письмо из Урюпинской.
Пакет был заклеен сваренной картошкой, а на нем написано малограмотной рукой: «Товарищу Миронову, секретно». Письмо же на серой, оберточной бумаге было длинное и обстоятельное:
Вот, товарищ Миронов, прошло больше месяца, как вы с войсками ушли из Урюпинской дальше бить кадетов и приказали нам с Выборновым, тоже членом партии большевиков, быть временным ревкомом и приступить к выборам соввласти на местах и выбирать по хуторам Советы из трудящего элемента, но не тут-то было. Когда пришла хлебная разверстка, то мы так и решили с Выборновым разверстать ее по хуторам, в расчете на колич. душ народу жен. и муж. полу, и, конешно, эту разверстку народ бы засыпал и хлебом и початками, ради того, что надо голодные города кормить до нови, а мы не хужи других. Но тут явился к нам окружной продком Гольдин, скорее всего нездешний товарищ, и сказал: никаких вам Советов на Дону не будет и разверстку по хуторам делать не нада, а он сам пройдет с отрядами и весь хлеб возьмет, под метлу, Выборнов спросил, как объяснять массам насчет Советов и за что боролись, а Гольдин сказал, что объяснять до конца военных действиев ничего не нада, а нада покрепче засупонить, и все. В другом месте высказался, что все казаки — его враги, все гады и, пока всех не вырежем и не населим пришлым элементом Донскую область, до тех пор Советской власти у нас не бывать.
Непонятно одно, чего он думает делать с нами, красными казаками, а их на Дону, сказал Выборнов, он грамотный, тыщ пятьдесят токо в Красноармии товарищей Миронова, Киквидзе, Колпакова, у Шевкопляса на Салу, Круглякова и так далее... Хотя и у Краснова не менее, остальные сидят дома и ждут с моря погоды. Ну вот, прошел Гольдин по хуторам, весь хлеб взял, сам говорит: выкачал, дети и бабы пухнут, взъюжались, жалобы со всех сторон, кусать по всей станице нечего, из хутора Соленого пришли три старика к Гольдину с жалобой, он их без суда расстрелял...
Приезжает обратно трибунал, давай судить. Есть тут в хуторе купец Априткин, иногородний, вся торговля у него в сундуке, там: спички, гвозди, колесная мазь, карасин, дратва, — контрибуцию наложили три тыщи старыми, на керенки триста миллионов, не выплатил. Как злостного, расстреляли. Вчера трибунал рассмотрел пятьдесят два дела за сутки, дело понятное, восемнадцать к расстрелу, повели днем в займище, следом кто плачет, кто улюлюкает, одну бабку тоже расстреляли, лет восьмидесяти, саботажница.
Не поймем, товарищ Миропов, что и к чему удумано, а я тоже в политике должен разбиратца, как состою сочувствующим РКП и принят в большевики нилигально, когда сидели в лесу за Хопром в отряде Селиванова, скрывались от Дудакова. Посля Дудаков уволок из кассы ревкома три миллиона золотом, и мы же его ловили, золото отбили и передали советским властям, а за что нас казнить?
Теперь такое дело. Неизвестно, куда жалиться. Гольдин 9-й армии не подчиняется, Балашову тоже, а подчиняется он гражданупру Сырцову, а гражданупр Сырцов аж в Козлове Тамбовской губернии, вот и поезжай к нему.
Некуда податься нам, большевикам и сочувствующим, а тут моя сестра приходит с перевязочного с работы и говорит, у них долечивается будто комиссар из штаба Миронова, тов. Бураго. Ну, я взялся писать, думаю упросить товарища взять письмо, потому что может опять дело взбугриться, как под Сетраковом прошлой весной. Казачки, они такие — проголосовали за Соввласть, но за горло их не бери.
А на вас, тов. Миронов, народ дюжа надеица, и вы там со своими большевиками-комиссарами найдитя ход в Москву, иначе нам всем каюк. Крепко надеюсь. И все наши партийные.
Да! Тут приехал еще один партейный товарищ — Кутырев, но он из бывших офицеров, а поэтому молчит и ничего не говорит, ни да, ни нет, видно, что опасается, что тоже подведут под расстрел. Это, конешно, по нынешним временам просто.
С тем остаюсь верный Советской власти, сочувствующий РКП и нилигальный член большевиков,
посыльный станичного ревкома
Долгачев Николай,
образование 2 кл. церк. приходской.
Не обижайтеся, пока.
Даты не было... Комиссару Бураго, который привез это письмо, Миронов сказал, что если бы не из верных рук, то можно б предположить самую подлую провокацию, а Борис Христофорович со своей обычной объективностью в каждом деле сказал:
— Причины, думаю, две... Первая — страшная злоба, развязанная самим ходом этой войны. Как муть донная, что подымается даже на глубоких реках в бурю. Но это не все. Кажется, есть решение... не то РВС фронта, не то Гражданупра: временно Советы не выбирать, ограничиться ревкомами по назначению свыше.
Миронов, конечно, вспылил, сказал, что в условиях Донской области это прямая провокация, потому что казаки триста лет выбирали хуторских и станичных атаманов, а то и войсковых, и надо немедленно что-то делать, куда-то сигнализировать, пока эти безобразия не получили широкой огласки, не дошли до генерала Краснова... Потом несколько сдержал себя и попросил найти Ковалева и прислать к нему.
А тут еще пожаловал и Степан Воропаев...
Теперь ждал комиссара, горбился за столом, подпирая лоб жестким, мослаковатым кулаком. Время было позднее, лампа с выгоревшим керосином уже чадила, у дешевого, картонного абажура медленно обугливалась середина, воняло жженой бумагой... Миронов и сам понимал, что эта война слишком развязала безотчетную злобу человеческую, что рано или поздно придется ее укрощать, гасить силой власти. Но только слепое сердце могло не почувствовать, что в той большой судьбе, которая вела Россию по терниям и крови, в великой трагедии революции, всеобщего передела и великого поиска путей, развивалось нечто тайное, до поры невидимое простым глазом, либо непонятное по сути, но смертельно опасное и для народа, и для самих революционеров, тот почти молчаливый сговор темных людей, не только «лица не имеющих», но прячущих и лицо, и свои действия за эту самую «неразбериху», этот «круговорот зла»... Без открытой идеи, без принципов, без честного обязательства перед народом, все — тайно...