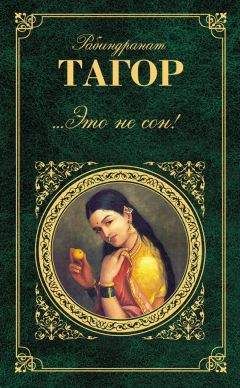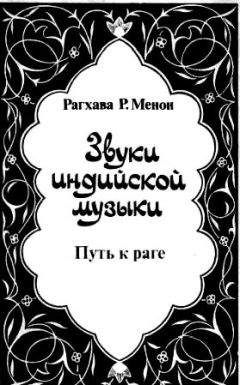Юрий Калещук - Непрочитанные письма
— Еще немного!
— Нет! — кричит Панов. — От козырька надо тянуть!
Тянем от козырька. Что такое неполных триста килограммов нашего веса против двух тонн и ветра? Сапоги скользят. Труба не шелохнется.
— Нет! — кричит Панов. — Давайте от шурфа.
Тянем шкимарь от шурфа, из которого торчит ненужный сейчас квадрат, пытаемся развернуть элеватор, выравнивая трубу. Тянем от подсвечника. Тянем снова от стояка манифольда...
Тяжелый цилиндр нехотя поворачивается, и верхушка стального цилиндра замирает. Вот так. С обиженным всхлипом делает оборот ниппель, одна нитка резьбы исчезает под муфтой, а через края течет выдавливаемая смазка. Вторая нитка, третья... Рванул ветер, рванулась веревка, и труба покосилась.
— Нет, не удалось Артему устроить брата в депо, — слышу я рядом чей-то сожалеющий голос. Поднимаю голову — вижу паренька с веселым лицом и лихими усами, в желтой щегольской курточке и коротких сапогах. Наверное, технолог. Приехал с «горки» на спуск колонны.
— Надо было от козырька, — сварливо говорит Панов.
Гриша сдвигает на затылок каску, моргает часто-часто, словно глаза ему запорошило. Снова присаживается на корточки, щурясь, вглядывается в нитки резьбы. Подходит к нам, наматывает шкимарь на руку, дергает элеватор, отклонившись назад всем телом.
— Держите так.
Держим. Хищно щелкают челюсти машинного ключа. Не вижу ничего, кроме лопаток Петра. Не слышу ничего, кроме дыхания Калязина, уткнувшегося мне в спину.
— Нормально.
— Полчаса с одной трубкой упирались, — бубнит Панов. — Гляди, Подосинин... Нам только в первой секции шестьдесят шесть трубок кидать... Гляди.
— Зато скважину вы больно быстро прошаблонировали, — говорит Гриша. — Прямо-таки спринтера.
— Ты за своей вахтой следи, Подосинин. — ворчит Панов. — А что в других вахтах — так на это мастер есть. Догадываешься? То-то.
И уходит.
Гриша отдает тормоз лебедки, и колонна ползет вниз. Над верхней муфтой вскипает раствор и обрушивается на нас метров с четырех. Раствор теплый, но это единственное утешение. Ибрагим машет рукой с приемного моста, и новая труба, со звоном роняя предохранительное кольцо ниппеля, нависает над ротором. Гриша и паренек в желтой курточке, склонившись голова к голове, изучают резьбу, потом, распрямляясь, показывают одновременно, откуда надо тянуть шкимарь. В разные стороны показывают, конечно.
От козырька. От шурфа. От стояка манифольда. От подсвечника. Ветер переменил направление, дует со стороны выхлопных труб; хватаем горький дым раскрытыми ртами, бегаем по буровой из угла в угол. От шурфа. От козырька. От подсвечника. Хищное пощелкивание челюстей машинного ключа. Держите так. Держим. Плеск раствора, сорвавшегося вниз с четырех метров, влажный холод между лопатками, хлюпающие сапоги, скрип лебедки, неподвластная тяжесть элеватора. Непослушные руки, едва прикрытые расползшимися верхонками, сжимают ускользающую веревку...
— Ты что, Володя, — спрашивает Гриша у паренька в желтой курточке, которая, впрочем, стала уже грязно-серой, а усы, облепленные раствором, приклеились к лицу, как холодные макароны к тарелке, — из бригады Эрвье ушел? В технологи перевели?
— На «горку», точно. Хватит, говорят, элеваторы ворочать — пора шевелить мозгами.
— Как Эрвье? — спрашивает Калязин. — Колонну спускает?
— Колонна на забое, — отвечает Володя. — Цементаж идет.
— Цементаж? Красота!
— Тяните от лебедки, — говорит Гриша, и мы повисаем на шкимаре вчетвером — Володя, подпрыгнув, тоже хватается за какой-то узел. — Вот так.
От подсвечника. От шурфа. От козырька. Держите так. Держим. Почему столь неистребимо это мелкое тщеславие, когда случайная причастность к неслучайному делу пробуждает чувство превосходства над теми, кто к этому делу непричастен? Что было бы, если бы все вцепились в одну и ту же веревку? Земля сорвалась с орбиты? Или всего лишь отдавили ноги кому-то в несуразной толкотне? Держите так! Держим. От козырька. От подсвечника. От стояка манифольда...
Кажется, это двадцатая труба. Для нас — по крайней мере в эту вахту — последняя.
— Не шибко, — говорит Гриша. — Теперь Панов будет неделю изгиляться.
— А то.
Бредем в сушилку, опустив головы.
Не шибко.
Но вот роба, с которой продолжает стекать раствор, развешана на крючках, сапоги голенищами вниз распялены на кольях — и вместе с тяжестью сырой одежды постепенно сползает с плеч, просачивается меж пальцев усталость, отступает отчаяние неудачи. Так ты из Москвы, старина? — спрашивает Володя. Его поселили в нашем с Годжой балке, и он, раскатав спальный мешок на верхней полке, протягивает мне руку: — Я тоже из Москвы. Ну, почти из Москвы — из Лобни.
За пять минут выясняем, что мы с Володей Шиковым дважды земляки: работали в Москве под одной крышей. Он — в брошюровочном цехе журнального корпуса «Правды», а я — в журнале «Смена». Потом он припомнил — или из вежливости сказал, что вспомнил, — будто читал мои сменовские очерки о самотлорских буровиках, бригаде бурового мастера Виктора Китаева, и спросил:
— А как они сейчас? Ну, эти, из китаевской бригады?
— Пошли на сто тысяч. В июне двенадцать триста пробурили.
— Крепко. Толковый мужик, видать, этот Китаев...
— Не без того.
— А ты долго у них был?
— Восемь раз за полтора года. По две-три недели каждый приезд.
— Ага... Значит, когда ты по новой приезжал, они уже читали, что ты там про них написал. Ну и как?
— Что — как?
Я понимаю, о чем хочет спросить Володя, но это непростой для меня вопрос, и я тяну время. Как бы ни разбухала моя трудовая книжка и сколько бы новых штампов в ней ни появилось, прежде, до Самотлора, случалось не так уж часто, чтобы я встречался с людьми, про которых уже писал. Я увидел один день из жизни человека, и этот день был таким или я увидел его таким — какая разница? — а странное сходство этих разных людей, когда они оказывались на газетной или журнальной полосе, можно было легко объяснить верностью определенным характерам, стойкостью интереса к однажды избранному типу героев. Или незнанием?
Как-то я попал в Уренгой. Был конец весны или начало лета. Течение моей командировки обмелело, иссякло в тот день, когда семь с половиной часов лету на Ан-24, два часа на Ан-2, час на вездеходе, двадцать минут на обласке, лодке-долбленке, полтора часа на вертолете Ми-6, соединившись с днями ожидания в каждом пункте стыковки перекладных, составили две недели и ломаный маршрут от Бумажного проезда в Москве до Р-25 — разведывательной буровой на бестолковой речке Арка-Есета-Яха. Три дня, еще три дня и еще три дня (раз в трое суток прилетал вертолет) я бродил меж балками, топтался по буровой, разговаривал, молчал, слушал, но все никак не мог понять, почему они здесь, что у них здесь. Я улечу, я поеду дальше, а они останутся. Я буду рассказывать друзьям о долгом перелете, искать на краю карты эту затерянную точку, год буду вспоминать двадцать минут экзотического плавания на обласке, а они останутся. Вертолет — это всего лишь автобус в час «пик», обласок — это лифт до шестого этажа, а однообразная и мучительная работа — что ж, это привычное дело. Одинаковые люди в одинаковых мокрых робах спускаются с приемного моста, одинаковые люди в одинаковых, пока еще сухих робах толпятся вокруг ротора; в блокноте застыли отчетливые буквы имен и неровные столбики диалогов, слова и словечки, житейские детали и пейзажные подробности, но лица героев пока неразличимы, они размыты туманом привычного полузнания, — а его так удобно складывать в слова, строчки, абзацы...
Я снова полетел на тюменский Север, приехал на Самотлор, потом полтора года ездил в одну и ту же буровую бригаду, и каждый новый приезд в Нижневартовск, каждая новая встреча с людьми, о которых я писал, была для меня не только радостью, но и испытанием...
— Как они к тебе относились? — повторяет Володя.
— Нормально. Не мне же тебе объяснять, что буровики — народ великодушный...
— Ну, а ты — врал много?
— Случалось. И глупые бывали ошибки, и обидные. Однажды забавно вышло: есть там Витя Макарцев, он одно время сменным мастером был у Китаева. Так вот, когда геофизики на каротаж приезжали, Витя от их агрегата не отходил — с замерами подгонял — да просто сам все хотел сделать, чтоб скорее и лучше. Геофизикам что? У них пять бригад, а для Макарцева эта — своя. И так слились у меня в памяти Макарцев, каротаж, красно-желтый агрегат геофизиков, что в одном из очерков я машинально написал: «Макарцев приехал на своем красно-желтом агрегате». Так ты думаешь что? Начальник управления позвонил Макарцеву в четыре часа утра и говорит: «У меня машины в разгоне, а тут жену одного товарища надо срочно в аэропорт подбросить. Ты свой красно-желтый агрегат не одолжишь?» Похихикали. Всякое было...
После одного очерка мы вдребезги разругались с главным инженером управления Усольцевым. И только потом, год или два спустя, когда уже вышла книжка о бригаде, Китаев прислал мне письмо, в котором были и такие слова: «Между прочим, Усольцев считает, что тогда ты был прав». Тогда я был прав, когда-то не прав — этого так мало. Час не равен часу — но давно ли я понял это?..