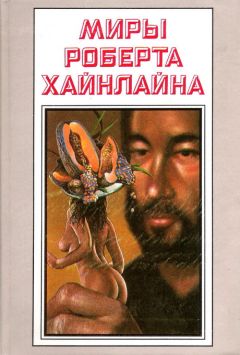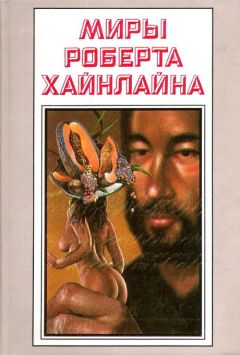Анастасия Цветаева - AMOR
— Как чайник и сверчок? Да? — спросила Ника. — Хорошо вы рассказываете!
— А знаете, как это назвать, если когда‑нибудь писать об этом? — отозвался рассказчик, — Французским словом jadis.
— Чудесно… Но я бы хотела написать о вас вообще, о вас с чертежами и с вашей женой Наташей, — сказала она чуть застенчиво, — и тогда бы я назвала это Jadis et Demain[8].
— Да, это подходит, — сказал он, и, при вспыхнувшем огоньке трубки, Нике на миг привиделся очерк ноздрей и губ.
Но им опять помешали…
ГЛАВА 6
НА РАБОТЕ И ПОСЛЕ РАБОТЫ.
ДЕТСТВО МОРИЦА
Праздники кончились. Третьего мая Мориц подошел к столу Ники, — надо было срочно сделать одну работу. Ника, кончив в начале дня ей данное, ожидая нового задания, упоенно писала стихи.
— Запишите нормативные источники, — сказал Мориц, — и сейчас же сделайте это! — Он отодвинул кипу книг на её столе — удобнее положить то, что нес; ускоряя труд? — в себе — плоды его — он выбрал ей все таблицы, чтобы она записала их номера. Опустив взгляд, он видел, что она пишет; она подняла на него далёкие, вдруг растерявшиеся глаза. Под его веками, чуть дрогнувшими, помимо его воли, сознания, вспыхнуло тепло. Но это было так коротко… "показалось"! — пронеслось в ней.
— Я диктую, — сказал он.
Отодвинув тетрадь со стихами, она покорно записала диктуемое, едва ли понимая, стараясь не пропустить.
— Я вам диктую источники, номера таблиц — понимаете?
— Понимаю, — отвечала она ещё издали, но что‑то внутри включилось.
Она писала, а он диктовал, и из того, что она писала, прояснялось происходившее: он диктовал уже не источники, а, раскрыв и придерживая пальцами страницу, норматив и объем работ и знаки помножения, то есть он диктовал ей формулы, им самим тут, на месте, составленные. Больше! Дойдя до конца формул, он уже диктовал — результат. Он делал за нее работу, то, что составило бы муку ближайших часов.
Он постоял у её стола минут двадцать. Работа была кончена.
— Доделайте — и пришлите мне это — с Матвеем!
Ей оставалось начисто переписать. Но дело тут не окончилось: у Диккенса в этот час бы продолжился солнечный луч! А жизнь вдруг взяла и скорчила гримасу. Когда Ника после "ангельского поступка", как она назвала, стала переписывать продиктованное — она не смогла разобрать цифры; взяв справочник, на который ссылался Мориц, она увидела, что в графе "Шифр сметного справочника" эти цифры не значатся. Она стала проверять дальше — то же самое! В ужасе, перестав понимать, боясь терять время, она обратилась к Жоржу, он подтвердил правоту её недоумения — и вместо благодарности, вместо молчания, которым она хотела её выразить Морицу — ей пришлось послать ему с Матвеем записку с указанием несоответствий, им продиктованных. Зачем так поступала с ней жизнь?!
Но жизнь поступила много лучше, чем Ника ждала: Мориц, придя, во всем разобрался, нашлась ошибка в номерах параграфов, был быстрый пересчет, и все кончилось миром, и так как не было сегодня срочной работы, Ника ушла к себе и погрузилась в тетрадку. Стихи! Они начались вновь, после многих лет перерыва.
Все разошлись. Ника впервые после праздничных дней была в бюро одна с Морицем. Заговорила она:
— Я задам вам вопрос, — ответите, если захотите. Я давно наблюдаю вас. О вас столько мнений… Я знаю вас только в деловой обстановке. В праздники я увидела ваше Другое лицо. Как вы о себе думаете: в вас два человека, да?
— Два человека в каждом… — он отвечал рассеянно.
— Да, но так резко… знаете ли вы, что вы бываете так грубы на работе, что это… трудно перенести?
— Знаю, — сказал Мориц, медленно шагая по доскам пола, глядя себе под ноги, руки в карманах, — я много в жизни терпел за это. Но это уже нельзя изменить!
— Но почему? (Настойчиво, вложив в это слово больше, чем оно могло вместить. Но оно сумело: вместило.)
— Видите ли, это издалека начинается. Чтобы это понять, надо знать, какой я на деле, в так называемой (голос застенчиво дрогнул) — глубине. Почему я в себе это выработал. В юности отлично учился, раньше других овладел предметом и был, может быть, любимцем в семье (я был довольно красивый мальчик), но мне — мне пришлось очень рано узнать жизнь…
Он стоял и покачивался на носках, так же хмуро глядя в пол, но голос хмур не был, и эта поза его у самого порога комнаты была остроаллегорична: слушающей его до боли понятно это — он качается между желанием говорить и желанием замолчать (шаг к ней или — от нее), и, сжав себя, затаив дыхание, она следила, что же будет сейчас?
Тень резко обводила его худое лицо. "Он похож на раненого оленя…" — сказала она себе.
— Вот есть один факт, имевший громаднейшее значение в моей жизни, — сказал он и, позабыв качаться, ступил полным шагом в комнату, изменив ритму, — мне было девять лет тогда, но этот день я помню, точно вчера!
И он пошел ходить, шагом обводя слово. Никино сердце билось, оно мешало слушать: человек шагнул — к ней!
— Моя мать происходила из богатой и знатной польской семьи, и родные её не могли примириться с тем, что она вышла замуж за бедного человека. В девять лет я очутился в доме родных матери, и они не стеснялись меня. Я это понял сразу, и вместо того чтобы оробеть, как это, может быть, случилось бы с ребенком другого типа, — я затаил в себе обиду и стал — на годы и годы — в защитную позу. Они старались меня обласкать, задарить, были самые чудесные, редкие лакомства. Я не притронулся ни к чему. И с этого дня перестал быть — ребенком. И я дал себе слово, что я буду богат и знатен. Знатнее их! Я чувствовал в себе незаурядные силы, я только не туда направлял их. Я чувствую их и сейчас. Не позволяю себе терять надежды. Я люблю строительство, читал лекции, много отдал театру, мог бы стать литературным и — особенно — театральным критиком. Математика всегда давалась мне с исключительной легкостью. Я наслаждался, изучая языки. Иногда мне кажется, что я мог бы быть кем‑то… действительно большого масштаба. Когда я читаю историю, следя за ходом событий, как они кристаллизировались в период их воплощения — как человек, их учитывал и направлял… Свойство ли это ума или склад характера, но жил я всего полней — на работе, в организации её, и чем больше масштаб, тем мне в ней было легче и лучше. Так — годы. До краха.
Движимая все тем же грустным любопытством, она решила спросить его, чтобы — увидеть, как он ответит.
— А что вас увело от решения стать богатым и знатным?
— Фронт. И народ. И те революционные настроения, которые царили там ещё во время войны. Вас удовлетворяет, миледи, мой ответ на ваш вопрос?
Но она не была настроена сдаться. Она отвела его тон движением своей рапиры: просто не расслышав вопрос.
— Понимаю. Самозащита стала вашей второй жизнью. Вы спасли себя от страданий. Ну, а что вы их причиняете — страдания вокруг, — это вы знаете?
Оленя — уже не было. Вполне владеющий собой человек, четкий, сомкнутый. Его поднятое чуть резкое лицо было ещё задумчиво, но уже гордо: это был конец аудиенции.
— Знаю, — ответил он, — но едва ли это можно изменить!
Стук в дверь: "На поверку!"
ГЛАВА 7
МАЛЬЧИКИ НА ЦАРСКОЙ ВОЙНЕ.
ПЕРВАЯ СЕДИНА МОРИЦА
— На войне, мальчиком, — я испытал много! — Мориц пошел наискось по комнате, все держа руки в карманах, но уже глядя себе не под ноги, — а — через стены — вдаль… — Там я впервые увидел — смерть. Много страшного я там видел, в царскую войну. В это время я был полон воинственного и военного энтузиазма, то есть таким я пошел на войну, сбежав из семьи: я был патриотом. (Кто‑то шел по мосткам под окнами, и Нике показалось, что и он, как она, прислушался — не войдут ли в дом. Нет, мимо.)
На фронт мы с братом бежали весной пятнадцатого года. Поезд из Риги шел в Двинск. Оставили письмо, что мы успокоимся или под дубовым крестом, или вернёмся с Георгиевскими. В Двинске нас повели в казармы. Мы были, как все, зачислены на довольствие. Документов шеф не спрашивал. Вскоре выяснилось, что друзья, с которыми мы приехали из Риги, пробудут на месте долго, проходя учебу. А нас тут могли накрыть, и мы стали продвигаться одни. Меня поразило: солдаты все спрашивали нас, не слышно ли о мире. Нас, мальчиков, это возмутило — мы спорили, что надо победить врага. Но солдаты уже знали, что русская армия несла большие потери, а русская деревня, как мы узнали из солдатских писем, испытывала тяжелые лишения: женщины пахали буквально на себе. Письма, несмотря на царскую цензуру, доходили до нас — потрясающие. Ещё меня поразило отношение солдат к проституткам. В Риге была такая улочка — самых низкопробных, дешёвых, солдатских публичных домов. И вот солдаты получали письма от этих проституток. В письмах этих было столько подлинной человеческой, материнской нежности, столько заботы — о белье, например, — и тут я понял, что в простом народе нет разврата, а, главное, что в проститутках они не видят его; понимают, что они — все те же крестьянские девушки, как они — крестьянские парни, и безо всякого интеллигентского слюнтяйства здорово, спокойно и классово правильно оценивали это.