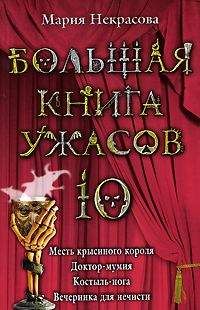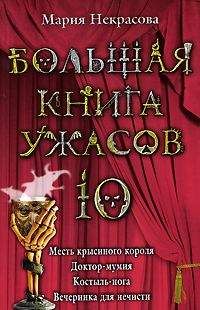Гвин Томас - Всё изменяет тебе
Я рассмеялся. В этих словах я узнал прежнего Джона Саймона с его капризной и быстрой, как стрела, фантазией.
— Да и крот — то он из опасных! — добавил Льюис.
— Чем же он опасен? — спросил я.
Глядя на Льюиса, я подумал: а уж не пересаливает ли он, придавая своему лицу такое строгое и мрачное выражение при одной мысли о Лимюэле? Мне все еще казалось, что у коротышки — пекаря и без того хлопот полон рот: справиться бы ему с печкой, с квашней, а тут еще испуганные глаза его жены Изабеллы, — где уж тут брать на себя роль сверхугрозы миру среди людей?
— Не вижу в нем ничего опасного. Что он крот — согласен. Но ведь все мы пользуемся какими — нибудь уловками, чтобы прятаться от дневного света. Под людей подкапывается? Тоже допускаю. Но кого он когда — либо укусил по настоящему, до крови?
— Сам — то ты малость смахиваешь на крота по части распознавания людей, — сказал Льюис, и так как, произнося эти горькие слова, он наклонился ко мне и почти вплотную приблизился к моему лицу, то мне показалось, что я даже ощутил его мрачный голос на своей щеке. — Голова — то у тебя, верно, ветром подбита, — продолжал Льюис, — так вот послушай, что я тебе расскажу. В прошлом году Сэм, брат Уилфа Баньона, слегка нашумел в цехе номер три, когда Пенбори попытался было скостить пару грошей с поденной платы рабочих. В ту пору Пенбори вел разговорчики о том, что нам — де придется подтянуть животы, так как у шотландских предпринимателей плавильные печи лучше наших и поэтому они отправляют на Север больше металла и лучшего качества. Хозяин предупредил Сэма, чтоб тот не бузил. Но у Сэма целый выводок ребят мал — мала меньше, и даже пояса — то у него, собственного, не было, чтоб потуже затянуться. Тогда — то Лимюэл и взял к себе постояльца — этакого коренастого парня с каменным лицом; на левой руке у него не хватало полутора пальцев. Никто не знал, кто он. Явился он из какого — то приморского поселка. Лимюэл подолгу разгуливал с ним, знакомя его с нашим городком. А еще через некоторое время Сэма нашли в неглубоком ущелье по дороге в соседний поселок: его туда столкнули. Можно было подумать, будто он сам случайно попал туда и стукнулся головой о камень. Во всяком случае, именно такую версию юрист Джервис старался внушить народу с самого начала расследования, и именно в нее народ поверил, потому что в ту пору еще только немногие из нас начинали понимать, что Джервису не всегда можно верить. Что же касается беспалого, то он заявил, что работа на домнах ему не по душе, и отправился туда, откуда пришел. Сэм же лежал вполне упокоенный и уже никак не мог больше рассуждать с хозяином о заработной плате и голоде.
— Ну и дался же вам этот Пенбори! Да вы из него прямо какое — то подобие сатаны сотворили — и все для того, чтобы хоть немного скрасить кошмар, который начался с того самого момента, как вы застряли всеми своими потрохами в этой прокопченной дыре. Да ведь это сущий вздор, все то, что вы рассказываете о Лимюэле: будто он водил этого молодчика по Мунли, как волкодава, и, тыкая пальцем то в одну, то в другую жертву, приказывал ему отгрызть им головы…
— Надо еще поучиться тебе уму — разуму, парень, надо! Много вершится на земле черных дел — таких странных, что в них и поверить трудно. Ты мог бы сыграть о них на своей арфе такие песни, от которых кровь стынет. О, что и говорить, Лимюэл чисто сработал свое мокрое дело с Сэмом. Он даже нашел женщину, по имени Флосси Бэн- нет, и она показывала против Сэма. Эта баба — цена ей от силы три пенса, ее всегда можно застать у черного хода в таверну «Листья после дождя», проспиртована она вся насквозь и готова на что угодно, — так вот эта баба заявила, будто она была на горе, собирала, мол, ранние фиалки, когда Сэм вдруг набросился на нее. От вожделения глаза у него были налиты кровью. Она — де отскочила в сторону, утверждала эта ловкая лгунья, а Сэм скатился в овраг и так стукнулся головой о камень, что страсти его сразу утихомирились. Женщине этой никогда не было дела до ранних фиалок, и уж если она за чем — нибудь забиралась на гору, то, во всяком случае, не для того, чтобы рвать цветочки. А что до того, будто Сэм Баньон ее любил, то это вздор: немножко жалости, может быть, вздох и быстрое отступление — вот все, чего Флосси могла дождаться от него. Сэм любил свою жену — если только в здешних местах любовь может прогрызть себе дорогу сквозь нужду и горе. Да и детей у него была целая куча. Ты заблуждаешься, арфист, если думаешь, что люди меняются с трудом. В своих далеких холмах ты встречал, верно, людей, одиноких, как пень. Слишком мало в их жизни дрожжей на закваску — она и не меняется; насыщаться и умирать — вот и вся недолга. Люди могут меняться. Менялся и Сэм, быстро и без шума. Мы могли бы расправиться с другими так же, как они расправились с Сэмом. Но нам не к чему пускать в ход убийство, не так уж мы трепещем за себя, чтобы искать спасения в такой дурацкой штуке. А если бы нам пришлось убить, то уж не стали бы мы прикрывать убийство такой ложью, которая будет саваном и для тех, кто остался в живых, например для жены Сэма.
— Она уже все глаза выплакала, — сказал Лэйтон Эндрюс. — Сэм и его жена очень дорожили друг другом.
— Если бы не Джон Саймон, жена Сэма и его дети наверняка погибли бы с голоду.
— Сил не было смотреть на этих детишек, — проговорил Джон Саймон. — Вся семья перебралась к соседке, в один из старых домов. В толстой стене этого дома пробили углубление, в этой дыре устроилась жена Сэма с детьми. От голода кожа у них блестела, словно натянутая и отполированная. Жалко было их, душа болела!
Я опять выжидающе посмотрел на Джона. На лице его уже угасло оживление, вернувшееся было к нему в начале разговора. Я почувствовал, что его опять сдавила какая — то великая и тяжкая мука. Я с ума сходил при мысли, что подлинная сущность этого человека, жизнерадостная и беспечная, ускользает от меня, а сам он снова скрывается в свое ужасное логово со всеми его опасностями и бедами. Но мне уже не хотелось спорить и забираться в мрачный туннель, как бы вырытый для себя этими людьми.
— Ну и веселенькая же у вас компания! Одержимые вы! — вырвалось у меня.
И в глазах их я прочел то иронически — снисходительное выражение, какое. часто можно увидеть во взоре высококвалифицированного мастера, когда он водит рукой совершенного невежды и тупицы.
Уилф Баньон заснул. Дэви упорно тянул вполголоса все ту же старинную колыбельную. Мы дружно вплелись в его пение — и вот уже весь холм огласился этой убаюкивающей мелодией…
4
Вместе с Джоном Саймоном мы направились к таверне «Листья после дождя». Как и подавляющее большинство строений в Мунли — если не считать кучки жилых домов вокруг основной домны, — здание таверны тоже было новое. Оно стояло поодаль от дороги, которая вела из Мунли на запад и обрамлена была подковообразной дубовой рощицей. Позади таверны холм круто поднимался вверх. Впереди находилась замощенная булыжником площадка с деревянной коновязью и желобами для воды по обе стороны от нее. Окна в таверне были простые, маленькие, не занавешенные и ничем не украшенные. От бурных горных ливней краска на деревянных частях пооблезла и пошла полосами.
Был поздний вечер, когда мы с Джоном Саймоном подошли, к таверне. Внутри уже зажжены были лампы, хотя небо еще струило потоки дневного света- Еще когда мы шли по дороге, до нас донесся гул человеческих голосов.
Джон взялся за входную дверь. Щеколда была новая и туго поддавалась, деревянная рама разбухла, и пришлось ударить ногой в нижнюю часть створки, чтобы дверь распахнулась. Мы очутились в большом зале, где разместились стоя человек двадцать — тридцать. Большинство этих людей знало Джона, и, как только он появился, многие закивали ему, другие приветствовали его поднятыми кружками и стаканами. В правом углу, перед дверью, которая вела в кладовую, находилась небольшая грубо сколоченная стойка. Справа видна была другая дверь — из светлого дуба и некрашеная, выходившая на черный двор. На половине левого простенка в глубокой нише мощно пылал очаг, облицованный кирпичом и обставленный скамьями, на которых двумя группами расселись люди постарше. Попивая и поплевывая, они спокойно беседовали. Несмотря на наличие очага, в самом центре зала воздух был почти прохладен. Никогда раньше мне не приходилось бывать в таком обширном питейном заведении, и я спросил Джона Саймона:
— О чем, собственно, разговаривает весь этот народ?
— Здесь почти все рабочие — металлисты, но о своих профессиональных делах они толкуют мало. А говорят они все об одном и том же: о религии и жизни, которую они вели до приезда в Мунли, о боге и родных нивах.
— Как так? А я — то, грешным делом, думал, что они день — деньской только и болтают о железе. Здорово же, должно быть, оболванен весь этот несчастный люд! — бросил я и стал обходить кучки посетителей, вслушиваясь в их речи.