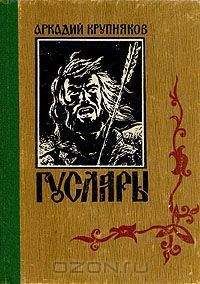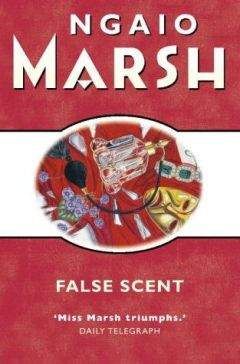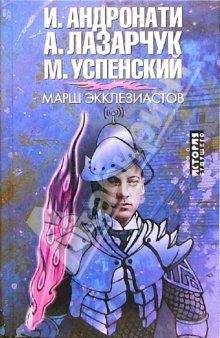Джина Лагорио - Она и кошки
Тоска сообщила новости и потом робко произнесла:
— Не берите в голову. Неужели из-за таких пустяков уедете насовсем?
Грета улыбнулась, достала из холодильника под стойкой бутылку и угостила подругу.
Подошел Гретин муж. Если он и был рассержен, то не подал виду; этот маленький коренастый человек всегда безукоризненно одевался, даже в самое пекло. Все у него было крохотное, но пропорциональное — рост, руки, глаза. Как шустренький гном, скользил он между столиками всегда в белоснежном фартуке поверх брюк с наутюженной складкой, в застегнутой на все пуговицы свежей льняной сорочке и окидывал свое заведение сверлящим, словно у хорька, взглядом блестящих черных глазенок. Улыбка редко появлялась на красиво очерченных маленьких губах под едва заметными усиками, которые он подбривал два раза в день.
Тоска припомнила, что никогда ей не доводилось видеть, чтобы хоть один волосок выбился у него из прически; в его присутствии она ощущала неловкость, с которой никак не могла справиться. В разговоре с ним ей с трудом удавалось выдавить из себя два слова, и за все эти годы она так и не сумела понять, кто у них глава семьи — он или Грета. Ей казалось, что у Греты он не вызывает никаких чувств — ни любви, ни ненависти. А когда он на людях начинал представляться перед женой, напускать на себя важный и строгий вид, Тоска всякий раз задавалась вопросом, достаточно ли в этой головенке серого вещества, чтоб равняться с Гретой.
Подойдя, Паскуалино слегка коснулся рукой жениной спины, и Тоска опустила глаза, обругав себя за злобные мысли. Никому не дано знать, что удерживает вместе двоих людей, это тайна за семью печатями, куда посторонним вход заказан. Она встала, попрощалась и только по дороге вспомнила, что так и не поела.
Возвращаться назад глупо, заходить в кафе-молочную поблизости, где собирались все местные жители, тоже не хотелось. Достаточно тех косых взглядов, которые она на себе чувствует, когда приходится покупать здесь молоко для кошек.
Она вдруг подумала: зачем жить, если ты не свободна даже в выборе — питаться тебе или нет? Подумала и удивилась, что не испытывает от таких мыслей ни малейшей горечи. Прежде всего потому, что не ощущает ни физической, ни духовной потребности открывать рот, общаться с людьми, готовить себе еду. Голод уже прошел, она купит себе большую бутылку белого вина и, прежде чем поставить его охлаждаться, глотнет, как обычно, для поднятия тонуса — это ей сейчас необходимо.
Только бы никого не встретить. Она решила, что купит даже два литра впрок, чтоб не ходить туда лишний раз. Направляясь к тому отрезку Аурелии, Тоска неизменно чувствовала, как колотится сердце при мысли о том, что она может столкнуться с его женой или с кем-нибудь из сыновей. Из-за этого страха она свела к минимуму свои покупки в том районе. Уж лучше проехать на автобусе и в старом городе закупить продукты и выполнить обычные бюрократические формальности у окошечка, где тебя никто не знает. Здесь, на почте, ее знали все. Она догадывалась, что очень любезная на вид, но с такими злющими глазами девица (кошки научили Тоску безошибочно видеть молнии и прочие оттенки во взгляде, скрытую угрозу в движениях) — подруга его жены. Тоска даже слишком хорошо понимала причины такой дружбы: у них обеих болезненный вид. А между больными существует нечто вроде сговора, общего языка, круговой поруки, независимо от характера или обстоятельств. Она ведь и сама принадлежит к этому небольшому племени в огромном глухом и невежественном мире здоровых людей.
Да, она теперь тоже из племени больных, но ей это ничуть не помогло преодолеть дистанцию недоверия и отчуждения. Со своей непохожестью она пришла в этот маленький мирок, где все друг друга знали и друг другу помогали и, хотя не отличались большой любовью к ближнему, зато были сплочены в ненависти по отношению к чужакам. Чем больше эти люди льстили и заискивали перед пришельцами, выколачивая из них деньги, тем сильнее их ненавидели.
Она их никогда не понимала, и Марио, конечно, упрекнул бы ее за это. Он был снисходителен, всегда готов понять, а Тоска — нет, она не находила оправдания людям, которые зимой перемывали косточки тем, перед кем летом расшаркивались до раболепия. И когда она «сошлась» с одним из этих людей (теперь у нее духу не хватало называть это любовью, она и сама толком не знала, что это такое: увлечение, мечта, жажда человеческого тепла), то через него пыталась понять их и подружиться. И лишь совсем недавно сообразила: в этом заключалась главная ее ошибка. Сообразила, что когда Бруно, прежде чем прийти к ней, делал немыслимые круги по всему городу, иногда опаздывал на целый час, усаживаясь пропустить стаканчик или сыграть в карты с кем-нибудь из встретившихся по пути приятелей, то это все из любви к ней. Он не хотел, чтобы их тайна вышла наружу, поскольку знал, что такое злые языки, и не заблуждался насчет местных жителей. Но как ни скрывай — за шесть долгих лет (причем последние три были сплошным мучением) люди не могли не приметить, как он выходит из небольшой запиравшейся на зиму двери в переулок. Много ль толку, что приходил он всегда в длинной брезентовой куртке и с рыбацким мешком? Скорее всего, именно такой вид и вызвал подозрения у кого-нибудь из завсегдатаев кафе-молочной или у соседки, вышедшей в переулок закрепить хлопающий ставень. Словом, его выследили, и весь городок узнал, что, пока жена в сумасшедшем доме, Бруно завел себе любовницу.
Женитьба с самого начала была для него голгофой. После первых родов у жены стали проявляться признаки психического расстройства. Ее лечили, пичкали таблетками и на некоторое время возвращали ему притихшую, словно одурманенную. Но вскоре безумие пробуждалось снова и толкало ее на такое, о чем вся округа долго потом судачила. И Бруно определял жену на очередное заключение — подальше от живых. Она была не буйной и в помрачении своем оставалась такой же кроткой, как всегда, но он понимал, что детей доверить ей нельзя. А было их уже трое, и когда она бывала в себе, то очень нежно о них заботилась. Но стоило проснуться тому злому духу, что жил у нее внутри, как она переставала всех узнавать и глядела исподлобья, будто затравленный зверь. Если дети плакали или просили ее о чем-то, она затыкала уши и запиралась в самой дальней комнате, где затевала какое-нибудь из своих безумств, всякий раз новое. То свалит в кучу все вещи, даже мебель перетаскивала, то распотрошит матрасы и разбросает вату по дому, словно снег. Последний раз порезала все постельное белье на узенькие ленточки, свернула их, как бинты, и выстроила в строгом порядке в гардеробе, а одежду вынула оттуда и свалила в мусорный бак. Когда Бруно стал корить ее за это, у нее сделалась истерика. В городке все его жалели, помогали, кто чем может, когда он оставался один. Кто водил младшенькую в ясли, кто делал для него покупки, чтоб было чем вечером накормить детей, когда вернется с работы. Тоска с ним познакомилась случайно: кто-то ей сказал, что он любой телевизор починить может, даже такой старый, как у нее. Бруно пришел понурый, усталый — не столько от работы, сколько от горя. Остальное произошло как-то само собой: одиночество сближает. Да, им было хорошо вместе, приятно вспомнить, как она с бьющимся сердцем ждала его, как старалась приготовить что-нибудь повкуснее, как стоило им расстаться на несколько дней, к примеру на праздники (ведь когда все сидят дома, еще труднее скрыться от любопытных глаз), и нежные объятия становились страстными. Тоска надеялась, что ее тоже примут, полюбят в городке: это же благодаря ей Бруно воспрянул духом и даже повеселел. Кому будет хуже, если я тоже помогу ему, рассуждала она, заштопаю чулки детям и свяжу им красивые теплые свитера?
Не раз мелькала у нее и другая мысль: вот бы та больше не вернулась! За это она и стыдила себя, и тут же оправдывала. Если бедняжке на роду написано такое несчастье — всю жизнь провести в сумасшедшем доме, то она, Тоска, могла бы помочь ей, воспитав ее детей и облегчив жизнь мужу. Она же никому зла не делает, наоборот. Но если она осмеливалась хотя бы отдаленно намекнуть о своих мыслях Бруно (говорить об этом открыто, высказывать какие бы то ни было требования ей и в голову не приходило: пришел к ней тайком, поужинали — и на том спасибо), то он только мрачнел и упорно отмалчивался. Она, конечно, переживала и до сих пор переживает оттого, как жестоко он с ней обошелся. Когда жену в последний раз выписали как «окончательно излеченную», Бруно забежал к ней перед отъездом и, запыхавшись, объявил: «Я еду за ней, она мне законная жена, и с этим надо считаться, не жди меня больше». И с тех пор всё — он забыл дорогу в ее переулок и даже не позвонил ни разу.
Тоска вошла в магазин на Аурелии. Вдоль всего помещения выстроились ящики и тележки с ликерами и винами; хозяин приветливо поздоровался (мужчины все-таки в этих краях лучше женщин, подумала Тоска). Она подождала, пока он ее обслужит, размышляя, что до захода солнца еще так далеко. Боже, как некстати лето для тех, кому нечего ждать! С наступлением темноты все вокруг ненадолго затихало, голоса нехотя уступали место тишине, люди в домах и пансионах ужинали, должно быть строя планы на следующий день. Пожилые отдыхающие ограничивались прогулкой до мола или вдоль пальмовой аллеи, а молодежь собиралась на каменном парапете возле бара и вскоре на мотоциклах или машинах разъезжалась по дискотекам и вечеринкам в более оживленных местах. Здесь, в полусонном замкнутом городке, прилепившемся на скалах, будто моллюск, взрослые, как ни странно, предоставляли детям большую свободу, чем на фешенебельных курортах. Скольких она тут перевидала еще совсем детьми, которые росли от лета к лету, влюблялись и слишком быстро утрачивали очарование молодости и красоты! Вон вчерашняя девочка уже идет с младенцем в коляске, а расплылась-то как, и грудь обвисла, а вон тот вчерашний мальчик уже лысеет. После разрыва с Бруно все вечера Тоски проходили одинаково. Даже если в доме было нестерпимо душно, у нее все равно не хватало мужества пойти к молу подышать свежим воздухом: ведь в эти часы весь городок высыпает на улицу посудачить. Дорога к морю превращалась как бы в один сплошной коридор, где слухи передавались от двери к двери, из уст в уста, и ни в одном из брошенных на нее взглядов она не чувствовала доброжелательности. А если все-таки отваживалась прогуляться, бросая всем вызов («в конце концов, я не прокаженная и ни перед кем отчитываться не обязана»), то, дойдя до очередной скамеечки, уже не чувствовала ног и задыхалась так, словно взобралась на высокую гору. Нет, дальше так жить нельзя. Тоска взяла холодную бутыль, прижала ее к животу и пошла обратно. Совсем рядом с тротуаром проехал мопед, чуть притормозил. Она чуть не лишилась чувств: Бруно! Не окликнул, не кивнул, но того взгляда, каким он ее окинул, хватит на всю бессонную ночь.