Дмитрий Притула - Ноль три
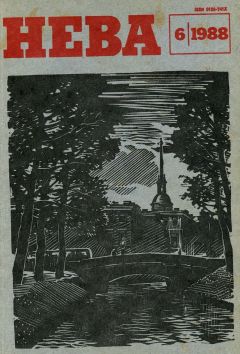
Обзор книги Дмитрий Притула - Ноль три
Дмитрий Притула
Ноль три
1
Конечно, если ты сутки работал — ездил на вызовы или, в паузах, валялся на топчане, то понятно, что к концу дежурства у тебя мятые штаны, рубашка и, конечно же, лицо, и пробилась рыжеватая с сединкой щетина, да если прибавить, что ты к тому же лысоват, то ясное дело, имеешь вид столь же замечательный, как, к примеру, запыленный сморчок.
Районная «Скорая помощь». Восемь утра — час до конца смены.
Девочки в это время моют посуду, разбирают топчаны, все после ночи молчаливы и хмуры, лица тяжелы, с синячками под глазами, и надрывается телефон, и голос диспетчера хриплый, злой, даже с пузырьками ненависти, потому что каждый звонок воспринимается как личное оскорбление.
И все маются от нетерпения — на сегодня поездки закончились или еще разок успеют тебя запрячь? — и после каждого звонка сердце заливает легкое тепло: не туда попали, не тебя запрягают.
Но даже и в это время я говорлив — водится за мной такой грех.
Однако сейчас это не пустое балаканье, нет, разговор по делу — старший смены должен знать, что и у кого случилось за ночь.
Тем более что смена почти молодежная: педиатр Татьяна Федоровна Алексеева, пятый год работы, линейный врач Светлана Васильевна Федорова, второй год работы, и три девочки — фельдшера Валя, Вера и Таня (мой фельдшер, мы с ней — кардиологическая бригада). Ну и, наконец, я, Всеволод Сергеевич Лобанов, на их фоне пожилой дядька — почти сорок три года.
Выслушав, что было у них, я рассказал, что хорошенького было у меня.
Правда, умолчал о том, какие любопытные снимки черепа видел вечером в хирургическом отделении.
Я привез в хирургию больного, сдал его и зашел в ординаторскую поболтать с заведующим отделением Колей Евстигнеевым (учились вместе, почти друзья). Коля как раз рассматривал снимки черепа.
— Гляди, какой перелом, — сказал он.
— А череп-то совсем детский.
— Да, девочке четыре месяца.
О дедушке и внучкеМолодая женщина не хотела забирать из роддома дочку. Тогда внучку забрала бабушка. А вчера дедушка, сорокапятилетний мужчина, выпил, внучка же все вякала и вякала, чем очень раздражала дедушку. К тому же его в очередной раз взяла обида, что у девочки нет законного отца. И он взял внучку за ножки, открыл дверь на лестницу да и выбросил девочку. А пол цементный. Тут с работы шла бабушка, она подняла внучку и вызвала «скорую помощь».
Но когда ее уже в хирургии допрашивал милиционер (так положено при каждой травме), она пожалела мужа и сказала, что девочка упала со стола.
— А что внучка? — обалдело спросил я.
— Вроде ничего. Улыбается — мы же ее кормим.
Так вот эту историю я своим девочкам не рассказываю, щажу их. Такое у меня заблуждение, что молодежь воспитываем мы, а не окружающая жизнь.
Да, но ведь девочку кто-то привез — о чем я по утреннему оглушению забыл. А привезла ее педиатр Татьяна Федоровна, которая и рассказала эту историю под общее возмущение. Убивать надо таких дедушек — был единодушный вывод.
И тут пронзительно зазвенел телефон, и обрывом сердца я понял, что это по мою душу.
— Всеволод Сергеевич, на вызов! Плохо с сердцем, — сказала диспетчер Зина.
— Таня, по коням! — это уже я своему фельдшеру.
Вызов был близкий, в общежитие строителей. Нас встречала молодая светловолосая женщина. Мы вошли не в главную дверь, а как-то сбоку, и это было что-то вроде общежития в общежитии — четыре комнаты на первом этаже.
Пятидесятилетняя тучная женщина с бледным одутловатым лицом неподвижно лежала на кровати. Голова ее, как обручем, была стянута черным платком.
Пока я разговаривал с ней, измерял давление, слушал сердце и легкие, молодая женщина, приведшая нас сюда, стояла у окна, скрестив руки на груди. Мне показалось, что она смотрит на меня высокомерно: чуть вскинута голова, легкая насмешливая улыбка.
Я сказал Тане, какие сделать уколы, и, чтобы не мешать ей, подошел к окну и встал рядом с молодой женщиной.
Она почему-то отодвинула штору и глянула на улицу, в жидковато-медный рассвет.
— Вы — дочь? — спросил я исключительно для поддержки разговора — не люблю тягостные паузы на вызовах.
— Нет, соседка.
— А что вы на улице высматриваете? — тонкий вопрос, не так ли.
— Здание напротив. Вижу его днем и ночью. Моя работа.
То была городская библиотека.
Три минуты разговора — пока Таня сделала укол, помыла шприцы, собрала сумку.
И то был последний вызов.
Заполнив журналы, я вышел в больничный двор раздышаться. Все! Без десяти девять. Больше на вызов не погонят, да вон и Елена Васильевна идет, моя сменщица, тоже кардиологическая бригада, тоже старшая смены.
— Как сутки?
— Ничего.
— Сколько?
— Двенадцать.
— Божески.
Еще бы не божески — бывает и шестнадцать, и двадцать вызовов за сутки.
— А ночь?
— Ничего. Три часа поспал кряду. И под утро часок прихватил.
— Божески.
А вот и наша заведующая Лариса Павловна, сухая, маленькая, но идет вальяжно, с достоинством.
Теперь передача дежурства, и все!
И как же восторженно вырвались девочки на волю — с визгом, с толчками, даже и напевая.
Господи! Да ведь, оказывается, весна пришла. Воздух-то гулок, и пора переходить на плащ, и проглянуло солнце, малиновое да тугое, и тебя словно бы покалывает легкими пузырьками; от этой внезапно пришедшей весны, от скукожившегося почерневшего снега, от похрустывания ледка под ногами, от разлившегося в безудержных пространствах теплого света, но главное — от воли, пять минут назад обрушившейся на тебя, от сознания — ты свободен два дня и никому не подвластен — от этого залившего тебя счастья ты хмелеешь.
И не покидает ощущение, что за те сутки, что ты работал, прошло не двадцать четыре часа, но по крайней мере месяц — иное время, иные измерения, иная жизнь.
И вдруг я вспомнил последний вызов, вернее, молодую женщину, с которой перекинулся несколькими фразами. Я не помнил ее лица, помнил лишь черную кофту, сведенные на груди руки, чуть вскинутую голову — пожилой провинциальный лекарь сделал свое дело, пожилой провинциальный лекарь может отвалить. К чему пустые разговоры?
Однако я почувствовал легкое томление — где-то я видел эту женщину прежде, лицо ее много лет мне знакомо, но ведь наверняка знал, что видел ее впервые.
И постарался отключиться, чтоб ничем не мешать счастью человека, внезапно вырвавшегося на волю.
Нет, чего там, я люблю свою работу, но всего больше люблю конец дежурства. Потому что всякий раз ты вылетаешь обалделый от счастья и своей свободы, и в тебе сидит нехитрое философское соображение — возможно, в окружающей жизни есть несовершенства, но все-таки жизнь эта прекрасна.
Когда ты едешь в машине и как бы со стороны видишь городскую жизнь, то испытываешь непереносимую зависть: господи, ну как это замечательно бежать трусцой к парку, неторопливо идти с подругой, гулять с детьми. Глупые! Ну что они все ссорятся, пакостят и отравляют друг другу жизнь! Только кончится смена, и у меня начнется новая, вовсе замечательная жизнь, уж я сумею ценить отпущенное время, дорожить счастливой минутой.
И все нашлепки жизни, весь навозец ее имеют отношение не к этой воле, но исключительно к нашей работе. И жизнь, в моем сознании, состоит как бы из огромных прозрачных сфер, как бы стеклянных куполов — и под одним жизнь только счастливая, вроде вольного струения эфира, под другим же жизнь привычная — именно здесь я работаю, именно здесь люди пьют и дерутся, и разбивают друг другу головы, и мы этих людей вывозим и спасаем; именно здесь ссорятся с начальством и получают инфаркты, и мы катим их под мигалку и с капельницей; здесь и только здесь швыряют детей на лестницу.
Эти сферы замкнуты, они не сообщаются — четкое понимание утром, когда работа закончилась.
Как бы волшебная смена наряда: ты надел халат, свою спецовку, вроде водолазного костюма, и ты будешь погружаться в волны страдания, в вопли боли, в завалы навоза; но ты снял спецовку и перешел в другую сферу, а там-то, мать честная, голову кружит ранняя весна, и все замечательно, и ты волен.
Именно это чувство свободы залило меня в конце первого же дежурства, и оно так и не прошло. Надо сказать, что после института каких-то особых медицинских устремлений не было — не прибивался ни к науке, ни к хорошей клинике. Поехал туда, куда послали — а послали сюда, в районную больницу. Плыл, можно сказать, по течению. Нет, кузнецом своего счастья я никогда не был. Не ковал свое железо ни пока оно было горячо, ни остывающее. Меня послали — я поехал. У меня и жилья-то не было, а здесь обещали резво дать комнатеху. И что удивительно — не обманули. И дали, и резво.



