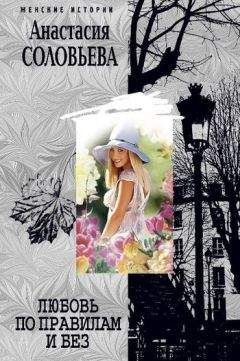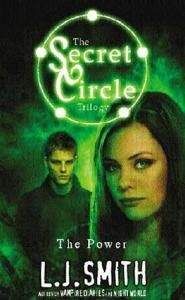Анастасия Соловьева - Полюбить Джоконду
— У вас большая семья?
— Огромная!
— Понятно…
А на самом деле ничего не понятно! Если Аретов не человек Карташова, то чей же тогда?.. А ничей! Свободный человек. И художник… Им заказали написать мой портрет. Не ради портрета — ради выхода на портретиста. А Аретов его коллега. Но почему он принимает в этой истории такое активное участие? Созванивался со мной, теперь везет на машине? Наверное, действует как представитель фирмы. Он же главный художник! Главный художник и свободный человек…
Джип двигался с такой сумасшедшей скоростью, что скорость не чувствовалась вообще. Казалось, мы стоим на месте, а мимо проносятся кварталы обшарпанных домов, заводские корпуса, бетонные заборы, трубы, автозаправки.
— Что это за район? — спросила я.
— Варшавка.
— Окраина ада!
— А разве в аду есть окраина?
— Если есть, то непременно такая!
— Откуда Лиза все это знает? — иронично улыбнулся он.
— Ну, я так думаю… А почему вы так быстро едете? Это не опасно?
Он засмеялся:
— Хочу быстрее вывезти вас с окраины ада в преддверие рая.
— Где это, по-вашему?
— Вы же знаток такой географии!
— Я знаток географии, а вы за рулем. Куда мы с вами едем?
— Пока что ко мне домой, в Бутово. И заодно вы по своей шкале оцените это место.
Глава 4
Я сидел за столом у себя в кабинете. Вот уже несколько дней Гришка пишет парсуну, и трижды я возил Лизу на сеансы. И странное дело, я часто теперь вспоминал ее, точнее, сами мысли навязчиво приносили воспоминания о ней, ее присутствие. Это мешало мне, мешало работать, жить, быть самим собой, наконец, безучастным и холодным ко всему. Я раскрыл бумаги и снова увидел: я подъезжаю к ее дому, она выходит, садится рядом… Мы едем вдвоем, она говорит о чем-то, смеется (кажется, тоже радуясь встрече). И я беззаботно болтаю, смеюсь, мельком поглядывая на нее, но так, чтобы не обнаружить своей окаянной несвободы. Какая она, Лиза? Удивительно, но я в своих грезах никогда не вижу лица ее, а как бывает в снах, только знаю, что это она.
В коридоре послышался приближающийся топот. Губанов влетел ко мне с дикими глазами:
— Алексан Василич! Древесину завезли — Прохорыч на ушах стоит! Макар уже пистон мне вставил! Я в трансе! Где проект?
— Через полчаса будет. — Я придвинул к себе чистый лист.
Губанов недоверчиво глядел на него и не уходил.
— Модерна по минимуму. Никакого гнутья, — говорил я, быстро рисуя.
— Как?! — Он заткнулся, словно проглотив жабу, и остолбенел.
— А так! У диванов, стульев — прямые, высокие спинки. Наверху немного резьбы… готической. — Я стремительно черкал по листу, припоминая Иннокентия Константиновича. — Деревянные подлокотники, лишь сверху обиты кожей…
— Как по минимуму?! — Губанов выходил из транса. — Да мне через час ехать к профессору этому… Да он меня!..
— Профессору? — переспросил я.
— Ну — заказчику! Ты же был у него в особняке ихнем. Да, Алексан Василич! Если б заказчики желали на пеньках сидеть или на жердочках, они, наверное, пошли бы куда-нибудь в «Икею»!.. (У Губанова в квартире пока вся мебель была из «Икеи».) Распишись, Алексан Василич, на каждом листе. Что я — крайний?! — И, схватив мои эскизы, он побежал дальше, бормоча под нос: — Успеем еще на компьютере оформить — может, красивей будет. Профессор этот сейчас оформит меня в стиле рококо…
И я вновь остался с ней вдвоем, осознавая, что присутствие Лизы чувствую теперь всегда. Мне было весело разговаривать с Губановым, потому что она была рядом и ей тоже было смешно. Сегодня вечером я опять повезу ее на сеанс.
С самого начала мы договорились с Гришкой, что писать он будет днем, а к моему возвращению в квартире уже никого не останется. И заехал я за Лизой лишь на первый раз, экономя Гришкино время и потому, что «Пролетарка» была мне по дороге.
Но вышло иначе. В тот первый раз мы благополучно доехали, но когда уже поднялись на этаж — дверь моей квартиры распахнулась сама и в проеме возник взмыленный Гришка с багровой рожей (торчал под дверью и прислушивался к лифту). Крепко зажав в кулаке свой клок волос на подбородке, точно тот хотел сбежать, он выпалил на последнем пределе:
— Мне Светка уже раз двадцать сюда позвонила! Меня братия ищут! Они ей звонят с утра! А я тут! Она не знает, что им говорить! Там доски новые привезли — меня срочно ждут! Я не могу!.. Я не буду писать парсуну!
Но оказалось — не так все страшно. Успокоившись и подумав, мы втроем решили, что писать Гришка станет вечерами, а я всегда (всего несколько сеансов) буду заезжать за Лизой.
И теперь я присутствовал на сеансах. Я ходил по квартире, курил, включал и выключал телевизор, присаживался за компьютер — чувствуя в соседней комнате ее. Но чаще я тихо садился в коридоре, прислушиваясь к разговору за дверью. Гришка напевал, словоохотливо отвечал, взрываясь смехом, на ее вопросы. И надолго опять наступала тишина.
Потом все пили чай. Гришка шумел, а она как-то по-особенному была грустна. Не понимая причины этой грусти, я объяснял ее усталостью после сеанса. Неловко держа перед собой чашку, отпивая из нее, Лиза становилась далекой. Я болезненно чувствовал, что здесь ее уже нет. В последний раз, когда она вышла одеваться, Гришка подмигнул ей вслед и сказал:
— Никакая она, Сань, не взбалмошная. Сидит как вкопанная, все думает о чем-то. Я понял сразу, что она не взбалмошная, по тому, как она ноги ставила, когда сюда первый раз входила.
— Ты портретист — тебе видней, — отозвался я.
Хотя я и сам давно понял, что она не взбалмошная. Понял я также, что и парсуна ей совсем не нужна. Все это было, конечно, странно. Но главная странность заключалась в том, что Лиза не знает Иннокентия Константиновича. Я это обнаружил совершенно случайно. Вчера, когда мы уже подъезжали к ее дому, я просто так спросил вдруг о его здоровье. И по тому, как Лиза переспросила, а потом неопределенно протянула: «Хорошо», — я догадался, что она, скорей всего, никогда и не видела его. И теперь мой долг был потребовать от отдела секьюрити осторожной проверки платежеспособности фонда «Обелиск», сделавшего заказ на крупную сумму.
Но мне не хотелось ни спускаться к нашим детективам, ни тем более общаться с ними. Я уже снял трубку, чтобы отзвонить Губанову и озаботить его, как увидел за окном, во внутреннем, тщательно выскобленном от снега и льда дворе, самого Губанова, элегантно вышагивавшего в безупречном черном костюме. Распахнув дверь своего представительского «сааба», он светски небрежно вкинул в салон лаковый портфель и, рванув гусарски с места в карьер, умчался на встречу с «профессором».