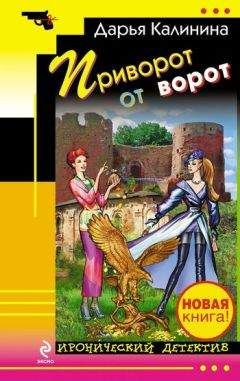Дарья Плещеева - Береговая стража
«Нет, — подумала Федька, — нет, никаких Америк, а для женщин, потерпевших крах, есть девичьи обители! Туда и фигурантку из Большого Каменного возьмут, Господь никого не оттолкнет!»
В палевой комнатке был и образ в углу, Богородица с Младенцем, старый уж с неразличимыми ликами и потускневшим окладом, величиной с две Федькины ладони.
Она опустилась на колени. Вот сейчас и нужны слезы, чтобы молитва прозвучала, прозвенела, в небо вознеслась на крылах чистейшей искренности! Но не получалось. Ни слез, ни молитвы, ни истинного желания посвятить себя Богу… ничего… все украдено, все украдено…
Однако и желание молитвы приносит плоды. Мысль, возникшая в голове, зародилась не там — до такой возможности Федька бы не додумалась. Кем-то вложенная в ее сознание стала единственным спасением!
Теперь фигурантка знала, как поставить нерушимую стенку между собой и Румянцевым, куда сбежать от несчастливой любви.
Она вскочила с колен и выбежала в коридор. Нужная комната была в другом крыле здания — чтобы попасть туда, следовало пересечь гостиную. Там горел свет и сидел перед клеткой с попугаем незнакомый мужчина в шлафроке. Он занимался важным делом — обучал птицу новым словам.
— Ну, давай еще раз, Цицеронушка, — просил он. — Ромашка амурчик! Ромашка амурчик!
— Спр-р-р-раведливость востор-р-р-р-ржествует! — отвечал попугай.
Федька порадовалась, что на ней одни чулки, и проскочила беззвучно из двери в дверь.
Идя по коридору, она заглядывала всюду — кроме рабочей комнаты. Приходилось действовать медленно — чтобы петли скрипели как можно тише. Наконец нашлась необходимая дверь. Она была во мраке окантована четырьмя тускло-светлыми полосками. Федька перекрестилась и вошла.
— Вы, сударыня? — удивился Шапошников. Он уже собирался лечь, сидел на кровати в черном шлафроке и красном ночном колпаке.
Его комната была обставлена странно — для работы и утреннего туалета служил дорогой стальной складной столик тульской работы, а при нем — два складных ажурных кресла, тоже из полированной стали. И стол, и кресла на колесиках, совсем неподходящая для спальни мебель. На комоде стоял большой, весь в искрах, ларец — также стальной, и отделанный тем же металлом диамантами. Множество шариков, не более горошины, ограненных и привинченных, сверкало на вороненом фоне стенок и крышки. Как раз ларец Федьку не удивил — сталь была в большой моде, и даже пуговицы щеголи носили стальные.
Но фигурантке было не до обстановки.
— Простите меня, Дмитрий Иванович, — сразу заявила она. — Вы были правы, а я — нет.
— Садитесь, поговорим.
Федька присела на стальное кресло, на вышитую подушечку, — и сразу вскочила.
— Дмитрий Иванович, помните, вы обещали посватать меня за достойного господина? Я… Я готова… Я буду ему верной женой. И как можно скорее! Если вы не передумали…
— Я не передумал, сударыня. За него не поручусь. Значит ли это, что между вами и Румянцевым произошла ссора?
В голосе Шапошникова не было ни малейшего сострадания — одно холодное любопытство. Видя, что Федька сидеть упорно не желает, он встал.
— Это не ссора! Не спрашивайте, Христа ради! Это, это…
— Сядьте, — строго сказал Шапошников. — Я все понял. Вашего ясна сокола ненадолго хватило. Он так устроен — истинная привязанность ему недоступна.
— Как вы это могли знать?
— Хм…
Пока Шапошников собирался ответить, Федьку осенило:
может, и привязанность к той девице у Саньки ненадолго? Мало ли, что собрался жениться? Однако его пылкая речь выдавала истинное чувство — таким своего избранника она еще не видела.
— Другая? — неожиданно спросил Шапошников.
— Да…
И Федька наконец заревела.
Шапошников не впервые видел женские слезы и знал, как с этой бедой управляться. Он обнял Федьку и пристроил ее голову на своем плече, он стал гладить девушку по спине, прекрасно понимая, что сейчас к ее отчаянию прибавится еще и нелепое чувство — жалость к самой себе. Но взрыв страстей не может быть длительным — на это он и рассчитывал.
Наконец он услышал невнятные слова:
— Ну чем, чем я перед ним провинилась? Что я делала не так?..
— Вы в Бога верите? — спросил Шапошников.
— Да…
— Когда родитель отнимает у дитяти игрушку, чтобы дать ему азбуку, стоит ли жалеть дитя?
— Стоит! — воскликнула упрямая Федька.
— Его нужно утешить и помочь ему собраться с силами. А если из жалости оставить игрушку — оно до двадцати лет будет ею забавляться…
— Румянцев не игрушка!
— Обычная девическая игрушка, друг мой, и поблагодарите Бога, что у вас ее более нет. Забрав это очаровательное создание, Бог даст вам кое-что получше. А будете хныкать — то и вымолите, пожалуй, обратно свою игрушку. Потратите на нее драгоценное время — и только. Недоверие к Богу — тяжкий грех. Я это на своей шкуре испытал. У меня Господь многое отнял — да потом многое дал.
— И вы утратили ту, кого любили? — недоверчиво спросила Федька.
— Ох, да как бы вам растолковать… Я в тот миг думал, будто утратил все. Вот как вы сейчас. И я был совершенно один. У вас подруги есть, должность в театре, у вас ремесло… Я один, и хуже того — на меня глядели с надеждой старые и больные люди, ждали от меня помощи, а я помочь не мог, я не знал, что завтра буду есть и найду ли кров, чтобы переночевать. К тому же вы приучены к труду и к скромной жизни, а я был избалованный барчук.
— Зачем вы говорите это? Хотите показать, что моя утрата гроша ломаного не стоит? — возмутилась Федька. — Да разве вы когда любили? Разве готовы были всем жертвовать ради любимого существа?
— Тогда мне казалось, что и любил, и готов… Да вы сядьте, — попросил Шапошников. — Сейчас найду платок.
Федька все же села на вышитую плоскую подушечку, приняла платок, вытерла глаза, но высморкаться постеснялась. Немного придя в себя, она вспомнила о своем замысле.
— Я твердо решилась, — сказала она. — Кто тот господин? Сможет ли он увезти меня из столицы?
— Не брак вам нужен, — ответил на это Шапошников. — По крайней мере теперь. Но вы на верном пути, вы правильно поняли свою задачу. Вам нужно совершить нечто — такое, что поставило бы между вами и Румянцевым неодолимую преграду. Уехать в Америку, скажем…
Федька ахнула — как он мог знать про Америку?
— А брак — брак подождет. Есть много мужчин, более достойных, чем ваш фигурант. И в вашей жизни еще будет танец под снегопадом…
— Вы видели?
— Да — я как раз возвращался домой и стоял на крыльце, вы меня не заметили. А вы полагали всю жизнь вот этак с ним проплясать?