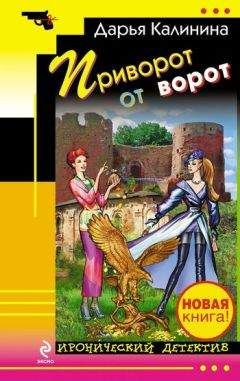Дарья Плещеева - Береговая стража
— Как там было славно, — сказал он не столько Федьке, сколько самому себе. — Как славно…
Федька знала, что он исполняет поручения сильфов, и повода для столь радостных улыбок не видела. Неужто та женщина, к которой он ездил в гости, привела любимого в такое неземное состояние? Но сам же говорил — толста, неуклюжа!
— Вы там угощались? — спросила Федька. — Хоть сбитню выпили?
— Что, сбитню? Нет… Если бы ты только вообразить могла, как там было славно!
Воспоминания обрели плоть, жар, аромат, на губах затрепетали те поцелуи…
— Так расскажи!
— Этого не рассказать! Федька, ты не воображаешь, как я счастлив!
Внезапная перемена в поведении фигуранта Федьку озадачила: только что простой вопрос его смутил, а теперь вдруг родился неимоверный восторг.
— Да я вижу, — ответила она и положила на тарелку недоеденный блин. — Ты все ж расскажи, порадуемся за тебя вместе. Ты же знаешь, я… ну… я всегда бываю за тебя рада…
— Знаю, знаю… Но это — это… такого со мной еще не бывало… — и, набравшись мужества, он выпалил: — Федорушка, голубушка, я влюблен!
— Кто она?! — вскрикнула Федька.
— Ты ее не знаешь, она не из наших! Она — лучшая в мире, она — ангел, понимаешь, чистый ангел! Я не знал, что такие девушки бывают!
Федька окаменела.
— Я раньше не понимал, что такое любовь, ей-богу, не понимал! Теперь — понял!
— И она — тоже? — едва выговорила Федька.
— И она. Ей шестнадцать, и ее еще никто не целовал, я — первый! Ты вообразить не можешь, как это! Я одного желаю — вновь ее видеть, я на все ради этого готов!
— А я? — плохо соображая, спросила Федька.
— Что — ты? Ну, ну… ты же понимаешь…
— Я ничего не понимаю.
Санька на всякий случай отошел подальше. Он знал, что Федька его любит, — это весь театр знал. Но как быть с этой любовью — он понятия не имел. Принять ее — нелепость… И одно дело — получать маленькие презенты от женщин, пока твоя душа гоняется за несбыточным, а плоть утешается с Анютой. Другое — когда появилась Марфинька, когда других женщин и девиц в мире не осталось, а есть только она.
— Я люблю ее, — сказал Санька. — И она будет моей женой.
— Она?
— Да.
— Саня… ты, пожалуйста, уйди, уйди, слышишь?
Румянцев выскочил из палевой комнатки и вздохнул с облегчением. В конце концов ему не в чем было себя винить — он ничего Федьке не обещал и сказал чистую правду.
Она осталась и несколько минут бессмысленно смотрела на тарелки с блинами. Больше всего хотелось, чтобы жизнь кончилась — прямо сейчас. Усилие воли — и все, и нет ничего.
А она все не кончалась…
Вдруг Федька поняла, что ненавидит блины. И простые, дырчатые, и яичные, и красные, с гречневой мукой! Она захватила их сразу с двух тарелок и метнула в дверь. Блины шлепнулись на пол. А она оглядела стол, словно бы в поисках иного предмета для ненависти. Слез не было — была неимоверная обида, злость и отчаяние. Такие, что любой ценой нужно было от них избавиться! Невозможно жить, когда украден смысл жизни.
Но жизнь длилась — еще минуту, еще две минуты, еще три, и стало ясно, наконец, — так просто она не кончится. Нужно как-то ей помочь, чтобы она ушла. Нужно хотя бы выйти из дому, не одевшись, а потом шагать, и шагать, и шагать, обнимая себя руками, и упасть в снег, и потерпеть еще немного.
Федька представила себе это смертное шествие по Садовой, мимо Апраксина двора в сторону Коломны, все прямо, прямо, туда, где еще не бывала, куда-то к устью Невы и по льду — в сторону Кронштадта… туда-то уж точно не дойдет… вот и прекрасно, что не дойдет!
Она вскочила, желая отправиться в этот путь и оставить за спиной все, все, не только Саньку! Ее старая шубка висела на спинке стула, Федька схватила шубку, накинула — и, осознав нелепость этого, расхохоталась. Шубка полетела на постель.
Федька встала, как вкопанная, и одно слово прозвучало в голове — приказ надзирателя Вебера: «Занавес!»
Да, занавес, занавес. Опера исполнена до финальной сцены, после которой — только бестолковая «пантомима-балет для разъезда карет». Занавес. Комическая опера отзвучала. Юные любовники идут под венец, старая разлучница — в монастырь… что-то такое было однажды… Но завтра вывесят другой задник со скалами, равнинами и водоемом, выставят другие декорации. Такого не бывало, чтобы опера завершилась — и актеров выгнали, а театр подожгли.
Осознав эту простую истину, Федька задумалась. В голову пришла разумная мысль — нужно сотворить такое, чтобы возвращение к этой проклятой любви сделалось невозможным. Лучше всего — попросить летучих сильфов (к Богу с такой просьбой обращаться нехорошо), чтобы унесли Саньку в Америку, и он никогда оттуда не вернулся. Был бы жив, счастлив, танцевал бы — и никогда не появился в Санкт-Петербурге, ведь уехать в Америку — все равно что на тот свет переселиться. Или самой туда умчаться… а почему бы нет?.. Разве там не надобны танцовщицы?..
Америку Бянкина знала по театру — бегала с Малашей, Натальей Макаровой и Петрушкой-лентяем в немецкий театр смотреть комедию господина Кумберланда, переведенную с аглицского, о диком американце. Сей герой, простодушный до изумления, пылкий и ветреный, но вместе с тем добродетельный, являлся в Лондон, разоблачал мошенников и, наконец, удачно женился. Коли все в том государстве таковы — отчего ж туда не поехать?
Федька вовремя вспомнила, что на дворе — зима, и уплыть раньше мая она не сможет. А нужно немедленно предпринять нечто решительное и роковое, чтобы обратного пути не было, чтобы выкинуть из жизни Румянцева, как выкидывают за дверь нашкодившего кота. Что ж остается? Сибирь разве?
Географию Федька знала примерно так же, как пресловутый Митрофанушка в комедии господина Фонвизина. Может, чуть получше, — ведь действие многих опер и балетов происходило то в Греции, то в Риме, то в Париже, то даже в Альпийских горах. И, хотя душа рвалась прочь из ставшего ненавистным Санкт-Петербурга, уже очухался от потрясения и подал голос рассудок. Нельзя никуда уезжать до Великого поста, напомнил он, ведь впереди последние масленичные представления, и Федьке надлежит танцевать, танцевать, танцевать, улыбаясь публике, наполняя радостью каждое движение!
Она вздохнула — отчего человек в сем мире вечно связан по рукам и ногам? Отчего душа заперта в теле и не может умчаться? Отчего любовь не делает носительницу свою красивой? Неужто она до того гадка и уродлива?
Федька села к туалетному столику и увидела себя — свечной огонь делал ее, как всех женщин, красивее, а мрак разглаживал кожу. Она приехала из театра намазанная и напудренная, оспенные щербинки были почти незаметны. Да, но той — шестнадцать лет, и она подарила Саньке первые свои поцелуи! На одной чаше весов — многолетняя преданность, на другой — полдюжины поцелуев, и другая перевесила!