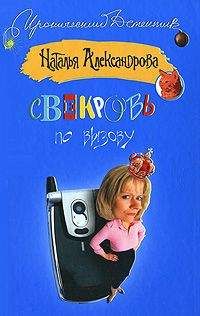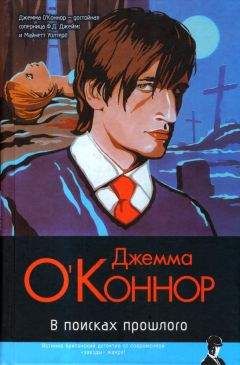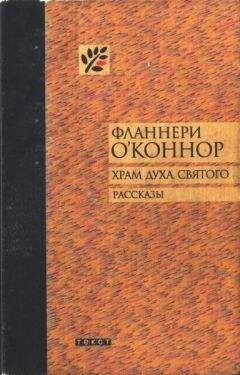Светлана Чехонадская - Кто стучится в дверь
– А вот это заблуждение! Все они миролюбивы до поры до времени! Вспомните Аум Сенрике!
– Разве они буддисты?
– Все сектанты друг друга стоят!
Аникеев молча забрал листок с фамилиями, достал из кармана шапку, натянул ее на голову. Разговором он был недоволен. Можно сказать, что он достиг самых негативных для себя результатов: еще раз убедился, что делом должна заниматься милиция, а не их отдел, и приобрел новое направление, игнорировать которое теперь нельзя ни в коем случае. Аум Сенрике! Ничего себе!
Книги Ошо часто попадались ему на магазинных полках: про их сексуальные техники ему тоже рассказывали. Аникеев не верил, что ребята, которые могут реализоваться в такой веселой вещи, как секс, станут интересоваться мышьяком – зачем им мышьяк, когда есть марихуана? – но как объяснить это начальству? Ведь Мордовских просто процитировал будущее возражение, которое он, Аникеев, услышит на вышестоящем ковре. «Аум Сенрике! – с радостным ужасом произнесет полковник. – Вспомни, как их проморгали! И кто?! Японцы! А нам-то просто Бог велит проморгать что-нибудь подобное!» И закрутится, завертится, пока милиция не найдет этого придурка, не имеющего никакого отношения ни к Будде, ни к Магомету, ни к Рождеству…
Но пока его не найдут, аникеевский отдел обязан копать в восемь рук…
* * *Все получилось, как она и думала. Стены были просто пропитаны ненавистью – логика подсказывала, что эту ненависть генерирует жена Левицкого. Но как: на расстоянии, из городской квартиры, или где-нибудь здесь под половицей заложена восковая кукла с воткнутыми в нее булавками? Такие истерички, считающие себя потомственными интеллигентками, были, по мнению Анюты, способны на самое банальное колдовство.
У них уже имелась одна общая знакомая – мир тесен! Жена брата парикмахерши, но той парикмахерши, которая раньше работала с той парикмахершей, у которой Анюта раньше стриглась – вот какая близкая знакомая! Кем она приходилась жене Левицкого, Анюта так и не поняла, но ей было доложено через парикмахершу бывшей парикмахерши, что жена «ходила к экстрасенсу и навела порчу».
Будь она впечатлительной, может, и расценила бы недавний диагноз, как действие колдовства. Но она не была впечатлительной.
Анюта была очень разумным человеком. Когда частная врачиха притворно заахала, заохала, когда она ткнула куда-то в снимок и завопила, что «уж не опухоль ли это», Анютино сердце, конечно, ухнуло в ноги, но врачиха поторопилась – ее выдал жадный блеск глаз. Анюта согласилась платить и за эти анализы, и за те, и за гормональное лечение, и за витамины, и за приход в середине цикла, и за приход в конце цикла. «Да, – кивала Анюта. – Да, конечно». А у врачихи глаза горели все ярче. «Эта дура будет ходить ко мне до скончания всех своих циклов, да и потом мы что-нибудь придумаем!» – было написано в этих глазах просто-таки неоновыми буквами.
Ну, и какое же это колдовство? Какая же это порча? Она сняла ее элементарно: сходила к знакомому гинекологу в государственную клинику, и они вдвоем посмеялись над диагнозом, который мог разрушить ее жизнь, хотя ставил целью разрушить только кошелек…
И так было всегда. Любую вещь в жизни можно было трактовать так, а можно было и эдак. Параллельными дорогами текли над Анютиной головой самые разные объяснения ее жизни. По одной колее двигались алюминиевые венцы безбрачия, воронкообразные чакры, а также порчи и пиковые тузы. По другой, как в сказке про Федорино горе, топали конкуренты, менты, налоговые полицейские, жадные врачи, ее собственное упрямство… Какая из этих дорог была более утешительной? Неизвестно.
Но вот во что Анюта верила, так это в злую энергию. Она не думала, что эта энергия способна принести реальный вред (ну, может только приступ мигрени), но то, что она существует и ощущается – в этом она не сомневалась.
Ей было не по себе в Перловке. Левицкий это тоже почувствовал.
– Я сам не люблю здесь бывать, – признался он, когда они еще лежали в постели, наверху, в мансарде. – Здесь было слишком много унижений…
– Унижений?
– Мы ведь начинали здесь жить, пока не было квартиры. Ее родственнички проявились в полной мере… У них в роду мужчины такие затюканные, что невозможно передать. Я пытался бороться, но все кончалось тещиными истериками, вызовом «Скорой», которую непременно нужно было встречать аж на Ярославском шоссе, иначе она заблудится в снегах. Потом я выслушивал ругань врачей по поводу вызова к абсолютно здоровому человеку, потом совал им деньги и снова провожал до Ярославского шоссе… Страшно вспомнить.
– Тюфяк! – сказала она вслух. – Тюфячок ты мой!
– Был тюфяком, – не обиделся Левицкий. – Но, в принципе, здесь уютно. Ты не находишь?
Она перевернулась на живот, чтобы лучше видеть окно. Оно было мутным. Солнце опять не появилось.
– Вечер начинается в одиннадцать утра! – сердито сказала Анюта. – Хоть не просыпайся!
Потом они пили кофе, завтракали яичницей и колбасой, потом искали пиво и смотрели фильм – каждую секунду она ощущала враждебность этих стен.
В общем, в воскресенье, часа в три Анюта объявила, что хочет покататься на лыжах. Левицкий немного напрягся – поселок был полон дачниками, прогуливающими собак.
– Давай в Клязьму смотаемся? – великодушно предложила она. – Там прекрасные горки. Там парк есть красивый, я на картинах видела.
– На чьих картинах? – подозрительно спросил он.
– Художника Ведерникова, – пояснила она.
– Там же еще этот живет… – сказал Левицкий. – Тоже художник… Точнее, жил.
– Ах, да! – произнесла она, опустив глаза: манипулировать людьми Анюта, вообще-то, не любила. – Точно. Ну, там много художников. Живописное место… Место действительно было живописным. Они бросили машину в каком-то тупичке, перед воротами с вензелями, и попытались спуститься по занесенной лестнице вниз, к реке. В итоге, весь путь они проделали на попах, а лыжи и палки летели вслед за ними под надрывный лай невидимой собаки.
– Ух ты! – Анюта, наконец, поднялась на ноги. Под куртку забилась снежная пыль, но зато впервые за два дня она сумела окончательно проснуться. Левицкий уже стоял, проверяя лыжное снаряжение. Кататься ей совершенно не хотелось.
– И где живет этот художник? Ну… жил. – Анюта знала, что память у ее любовника чудесная, но он мог начать ломаться.
Левицкий же давно разгадал ее маневры. Они и позабавили и расстроили его. «Старый я уже, – вот что он подумал еще утром. – Для быстрых разовых встреч гожусь, а вот на сутки – со мной уже скучно. Молодая женщина, избалованная…» Ему было немного стыдно за свой дом. Анютина квартира, где они обычно встречались, была хорошая, современная – старая дача, конечно, ей проигрывала. Можно представить, какой коттедж был у этого, предыдущего – аудитора… Левицкий до сих пор не мог понять, как это у них все завязалось.