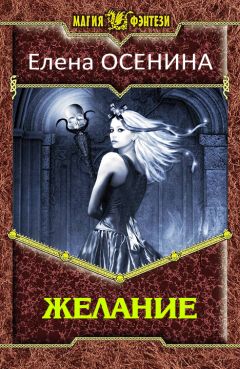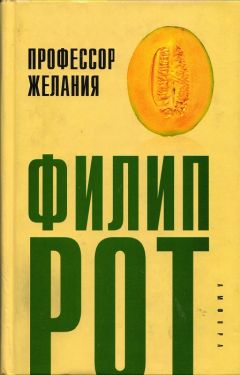Елена Арсеньева - Сыщица начала века
– Прошу, господа, откушать! – пригласила Лалла и грациозно опустилась… прямо на ковер, изящно поджав под себя ножки.
А, ну понятно. Индийская принцесса. Ой, какое счастье, что нынче не носят кринолины! Хороша бы я была! И, благодарение богу, мое платье без турнюра, который уже тоже отошел в область преданий. Поэтому я довольно легко присаживаюсь рядом с Лаллой – между прочим, не без удовольствия увидав на ее пикантном личике гримасу озадаченности. Она что же, ожидала, что я потребую стул? Ха-ха!
Мужчины последовали приглашению хозяйки куда более принужденно, не скрывая недоумения. Правда, озадачены они были не столько тем, как нам пришлось сидеть, сколько тем, что есть практически нечего. Дарьюшка не появлялась, чтобы внести что-нибудь более существенное, чем орешки и засахаренные сласти, которым Лалла между тем отдавала должное. Она клевала, точно птичка, то из одного блюдечка, то из другого, не забывая при этом наполнять свой бокал и рюмочку то из одного графинчика, то из другого и немедленно опрокидывать эти бокал и рюмочку в свой ярко накрашенный ротик, и наливала в них вновь, и вновь опрокидывала с завидной лихостью… Ей-богу, не совру: мы не успели наполнить свои рюмки и по разу, не успели даже первый тост сказать в честь именинницы, а Лалла уже умудрилась опрокинуть не меньше шести!
Глаза ее замаслились, лицо в одно мгновение словно бы обрюзгло.
В жизни не видела, чтобы человек напивался с такой скоростью! Наверное, она уже успела хорошенько взбодриться до застолья.
– Черт меня подери, – сокрушенно прошептал Смольников, – да ведь бедняжка Лалла уже закосела. Похоже, она совсем спилась от тоски по мне!
Вильбушевич хихикнул неожиданно тоненьким, совершенно мальчишеским смешком, но тут же сконфузился и заел его маслиной – наконец-то отыскалось нечто соленое среди этого изобилия приторных сластей! Мы со Смольниковым тоже накололи маслины на остренькие деревянные палочки, напоминающие зубочистки, но тут Лалла оторвалась от еды, облизнулась, сразу сделавшись похожей не на птичку, а на кошку, которая накушалась именно что хорошеньких птичек.
– Полагаю, вы уже сыты, дорогие гости? – осведомилась она с интонациями радушной хозяйки. – Ну а коли так, самое время поразвлечься! Дай-ка мне закурить, Гошенька!
Названный с самым невозмутимым видом вынул серебряный портсигар очень модного рисунка: в полоску. Одна полоска была блестящая, другая матовая. Раскрыл его, и оттуда пряно запахло хорошим табаком.
Лалла взяла папироску и вставила ее в янтарный мундштук, который был цепочкой прикреплен к ее поясу. В это время Смольников достал «вечную спичку» – насколько мне известно, это был предмет зависти его сослуживцев. Мне давно хотелось увидеть поближе это чудо техники, и, после того как Лалла сладко затянулась дымом, я попросила у Смольникова посмотреть забавную редкость поближе. Вильбушевич разглядывал ее с не меньшим интересом.
– Никогда не видел настоящую зажигалку! – пробормотал он восхищенно.
Чудо техники представляло собой небольшой прямоугольник из металла, сделанный в виде записной книжечки. «Обрез» был покрыт каким-то составом, видимо, серным. Внутри был налит бензин, а сбоку прикреплен маленький серебряный карандашик. Смольников чиркнул «карандашиком» об «обрез», и наверху «карандашика» загорелся огонек, который потом пришлось задуть. Оказывается, внутри «карандашика» была вставлена металлическая «спичка», в расщепленной головке которой находилась ватка, пропитываемая бензином. На самом деле все просто, но ведь все великие изобретения кажутся на поверку простыми!
Увидев, что внимание отвлечено от нее, Лалла снова обиделась. Вскочила, схватила с одного из кресел лежащую там гитару с шелковым бантом и бойко ударила по струнам:
Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный,
Ударом веера толкнула ты небрежно.
И трещина едва заметная на ней
Осталась…
У нее был очень приятный голосок, который, к несчастью, то и дело срывался и как бы плыл, напоминая саму хозяйку, которая весьма нетвердо стояла на ногах и покачивалась.
С той поры прошло не много дней,
Небрежность детская твоя давно забыта,
А вазе уж грозит нежданная беда!
Увял ее цветок, ушла ее вода…
Не тронь ее – она разбита!
– Потехе час, но время и дело делать, – схватив меня под локоть, прошипел в ухо Смольников. – Вон там, за лестницей, нужник, а сбоку, за занавеской, дверь во вторую половину дома. К Вильбушевичу. Быстро туда, а я пока отвлеку Лаллу и доктора. Будь осторожна: куда-то исчезла кухарка. Не наткнись на нее. Если что, скажешь, мол, заблудилась. Давай, бегом, туда и обратно!
И он чувствительно – и уже привычно – подтолкнул меня в бок. Я полетела стремительно, словно тополиная пушинка, подхваченная ветром, и такая же послушная, решив приберечь возмущение бесцеремонностью и вопиющей фамильярностью товарища прокурора на потом. Сейчас он совершенно прав: времени терять нельзя!
Из холла неслось тягучее:
Так сердца моего коснулась ты рукой —
Рукою нежной и любимой, —
И с той поры на нем, как от обиды злой,
Остался след неизгладимый.
Я сразу нашла дверку и проскользнула в узкий темный коридорчик. Резкий запах ожег мне ноздри.
Оно, как прежде, бьется и живет,
От всех его страданье скрыто,
Но рана глубока и каждый день растет…
Не тронь его: оно разбито!
Я закрыла за собой дверь, и голос Лаллы словно отрезало. Впрочем, знаменитый романс уже допет. Сердце разбито, а вокруг меня зверски пахнет карболкой. Ничего себе, прямо будто в госпитале после плановой дезинфекции! Неужели Вильбушевич ведет прием на дому? Вроде бы всезнайка Рублев говорил, что доктор арендует кабинет на многолюдной Покровской улице, в доме Хромова… Но тогда почему запах карболки царит в доме, где он не практикует, а просто живет? Или Вильбушевич такой уж маньяк дезинфекции и чистоты? Но ведь невозможно жить, беспрестанно дыша таким воздухом! Или он сам и его прислуга уже ко всему привыкли? А может быть… может быть, здесь все мыли карболовой кислотой для того, чтобы уничтожить другой запах – запах крови?..
У меня мороз по коже прошел. Наверное, это очень страшно – жить с сознанием, что ты убил человека. Причем зверски убил… Леди Макбет, помнится, все пыталась отмыть руки, которые чудились ей окровавленными. А Вильбушевича, может статься, преследует запах крови.
И вдруг у меня в памяти воскресло описание того мужчины, которого истопник Олешкин видел в вагоне с окровавленными рогожными кулями. Худощавый, на учителя похож… Вильбушевич мог быть похож на кого угодно, но худощавым его не назовешь, даже зажмурясь. Значит, это не он был там, в вагоне? То есть в убийстве Сергиенко замешан еще какой-то человек, кроме доктора? Или вовсе убийца – кто-то другой, а доктор даже не участвовал в сем?