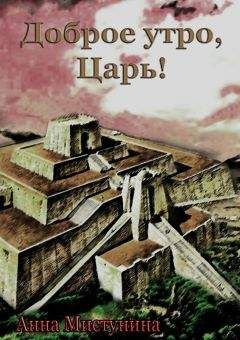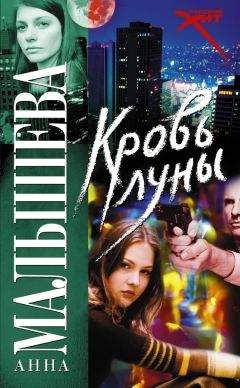Анна Малышева - Зачем тебе алиби…
Когда начало темнеть, белая юбка женщины стала особенно бросаться в глаза. Сумочка моталась у бедра, туфли сверкали над серым сухим асфальтом, белые волосы слегка развевались на ветру. Но шелковый свитер цвета крови потерял цвет, и красные губы женщины в сумерках стали темнее, а глаза превратились в глубокие провалы. На нее оглядывались, но ни один уличный приставала не решился ей ничего сказать — уж очень самоуверенный у нее был вид, уж очень быстро она шла, будто имела впереди какую-то цель и преследовала только ее.
И цель была. Странная цель, неясная, блуждающая — точно рассмотреть ее было так же трудно, как определить в этих сумерках цвет ее собственных глаз — но Маша все же видела ее, шла за ней, должна была ее достигнуть. У цели не было имени, ее звали Никак. У цели был пол — это была женщина лет двадцати пяти на вид. У цели была внешность — она была стройная, среднего роста, с волосами до плеч (как у самой Маши, только черными). Лицо у цели было довольно приятное, да, приятное, если не считать выражения глаз — эти светлые глаза всегда были настороже. Походка — неуверенная, нога за ногу, как будто обладательница этих ног всегда о чем-то задумывалась и не слишком смотрела на дорогу. В сущности, ничего загадочного тут не было. У этой женщины был муж (еще недавно был!), и этот муж любил ее (почти наверняка, стоило только увидеть их вдвоем!), и дарил ей драгоценности (два кольца и бриллиантовые сережки). Обо всем этом Маша вспоминала, сжав зубы, и шла еще быстрее (уж она-то не запиналась об собственные ноги, как та, другая!). Ничего загадочного, но… «Или я просто чего-то не поняла, — сказала себе Маша, — или Игорь сумасшедший. Да, сумасшедший». И тут же сама себе отвечала: «Был сумасшедший, дуреха, уже был… Он умер, запомни, и не смей думать о нем, как о живом! И оставь в покое и его, и его жену, оставь их всех в покое!»
Она резко остановилась. Сумка, летевшая вслед за ней на длинном ремешке, догнала ее и хлопнула по бедру. Перед нею был большой многоэтажный серый дом, сталинской постройки, с уродливыми башенками на крыше, с лепниной по карнизу… Мрачная каменная громада закрывала все небо, когда она запрокинула голову, глядя на знакомые окна в седьмом этаже. Одно из нужных окон было освещено.
Она не знала, что это за комната, зато была уверена — она не опоздала, не ошиблась, пришла вовремя. Нужно только подождать. Эта женщина выйдет.
Она вышла через час. Маша провела это время, сидя на сломанной лавочке в тени двух больших деревьев, породу которых она не могла определить в темноте. А ведь она знала толк в деревьях — в детстве отец возил ее на охоту, на Тобол. Река, запах реки, лес, запах леса. Большие деревья вокруг, и у каждого дерева есть имя, и отец рядом — большой и надежный, и мать у костра, обирающая ладонью комаров со своей полной загорелой шеи. Ее тихие жалобы, смех отца, его голос: «Пошли, Машук, посмотрим нашу лодку». И они смотрели лодку, резиновую лодку, уже надутую, которая так чудесно пахла — резиной, резиновым клеем, резиновыми сапогами отца, рекой, рыбой, которая еще была в реке, но на рассвете будет в лодке. Зачем теперь об этом думать?
Женщина вышла и быстро направилась прямо к лавочке. Прошла мимо, слегка задев взглядом сидящую в тени Машу. На этой женщине были туфли без каблука, на мягкой подошве, и ее шагов не было слышно. Зато каблуки Маши так застучали, когда она встала и пошла следом, что она содрогнулась — надо было обуться иначе, надо было, но что теперь толку сожалеть об этом? Цель была близка, и руки у нее холодели — от волнения, от страха, от радости. «Да, от радости! — сказала она себе. — И я рада, что скоро все кончится, потому что, если я не выясню, что происходит, я сама сойду с ума, как Игорь, будь он проклят, да проклят!»
Женщина, за которой она шла, прибавила шагу.
Свернув на набережную, она прошла еще метров двадцать и остановилась возле белой машины — марку Маша определить не смогла, она не разбиралась в машинах, а эту вообще видела в первый раз. «Неужели сядет и уедет? — спросила себя Маша, замедляя шаг, чтобы не столкнуться с женщиной. — Такого еще не было. Три раза я ходила за ней и никогда она не садилась в машину. Чья это машина? Она не садится, она не отпирает ее, она стоит рядом и роется в сумке… Может, еще повезет и она пойдет дальше пешком?»
Женщина вытащила из сумки сигареты, открыла пачку, заглянула в нее, словно сомневаясь, курить или нет, и передумала — сунула пачку в сумку. Слегка повернула голову в сторону Маши, и та была уверена — ее заметили. Женщина резко отвернулась и снова пошла дальше. К машине она даже не прикоснулась. Теперь Маше приходилось осторожничать — ее заметили, эта женщина явно знала, что за ней следят. Даже походка у нее изменилась — она шла уверенней, быстрее, ровнее ставила ноги в мягких туфлях, ее голубой плащ надувался парусом — так она спешила. Она ни разу не обернулась, только, когда тянула от себя тяжелую дверь станции метро, снова бросила назад косой взгляд, и Маша снова попала в поле зрения этого взгляда. И прокляла себя за неосторожность, но все же вошла в метро вслед за женщиной.
В метро та повела себя так, что сомнений не осталось — она хотела уйти от слежки. Проехав одну станцию (Маша ехала в соседнем вагоне), женщина вдруг выскочила на следующей, в последний момент, когда уже закрывались двери. Маша едва успела сделать то же самое — ну, чудо, что успела!
Но тут же об этом пожалела — народу на станции было мало, и хотя она, конечно, хорошо видела ту женщину, но и та женщина хорошо видела ее. Теперь она стояла неподвижно, слегка расставив ноги, как-то по-мальчишески, и смотрела прямо на Машу.
Хорошенько рассмотрев ее (та чувствовала себя словно в кабинете у рентгенолога), женщина отвернулась и быстро зашагала к эскалатору, ведущему вниз, к переходу на другую станцию. Маша помедлила, прежде чем двинулась следом и конечно, потом пришлось бежать по переходу, догоняя мелькающую вдали фигурку в голубом плаще — если та уедет… Та не уехала, она как будто ждала Машу, и в ее позе было что-то до того насмешливое и угрожающее, что Маша снова заколебалась — не делает ли она ошибки? Она вдруг вспомнила что-то очень далекое, знакомое и далекое — лицо матери, все красное при свете костра, смех отца, плеск большой рыбины в реке… И крик незнакомой птицы — та странно кричала где-то над рекой, мороз пробирал по коже, хотя у огня было хорошо, тепло. И звезды. Огромные, мохнатые, голубые звезды, голубые, как этот плащ, голубые, как эти глаза, мохнатые, как эти ресницы, близкие-близкие, как эта женщина, которая стояла неподвижно, ожидая ее. И это воспоминание так не вязалось со всем происходящим, что Маша назвала себя дурой, сентиментальной идиоткой, которая все погубит, уже все погубила — никогда ей не удастся незаметно проследить за этой женщиной, а ведь все только начинало проясняться… «Что со мной? — одернула она себя, но все же сделала еще несколько шагов по платформе. — Зачем я лезу ей на глаза? Глупо, так нельзя, она видит меня, выучила наизусть, сейчас подойдет и спросит, в чем дело, по какому праву я преследую ее…»