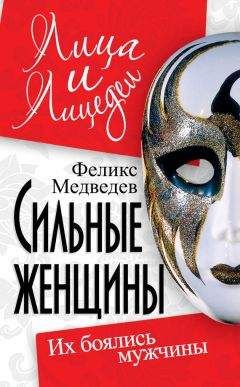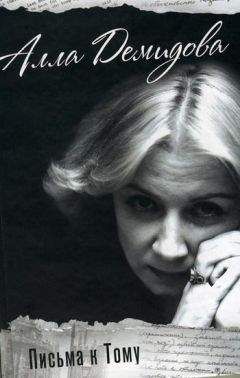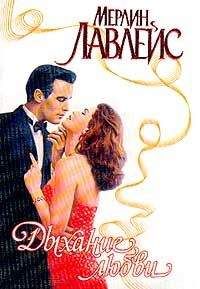Светлана Демидова - Сердце из нежного льда
Домой Алла вернулась с двумя бутылками армянского коньяка. На этикетках красовалось по пять звездочек. Уже у магазинного прилавка она решила, что водку не выдюжит, а вино для ее нужд слабовато.
Одну бутылку Алла выпила, как лекарство, без особого труда, методично заливая в горло одну чайную кружку за другой и говоря себе «так нужно». Вторая бутылка шла хуже. Пришлось отрезать хлеба с колбасой и заедать. На половине второй бутылки она сломалась. Коньяк больше в горло не шел, но Алла с удовлетворением чувствовала, что и так здорово пьяна. Ей, не употреблявшей алкоголь больше десятка лет, наверняка хватило бы и меньшей дозы, но она хотела, чтобы пробрало как следует и наверняка. Когда сознание стало ускользать, она поняла, что пора. Покачиваясь, цепляясь за мебель и роняя на пол утварь, она добрела до кухонной двери и, как могла, плотно прикрыла ее. Потом с трудом подвинула к плите табурет, села на него, открыла духовку, отвернула все вентили и, неудобно вывернув шею, уронила голову между двумя конфорками. Хорошо, что в старых домах газовые плиты, а не электрические. Это было последним, о чем она успела подумать.
Николай Щербань дрожал от холода в колясочной дома Аллы Белозеровой и клял жизнь и себя самого на чем свет стоит. И чего его понесло в Питер? В Киеве хотя бы теплее. Конечно, и на Украине зима бывает будь здоров, но там можно было бы из Оксанки или из ее заведующего вытрясти кое-какую одежду. В конце концов, он почти ничего не взял себе после развода. Это же несправедливо. Жизнь вообще несправедлива и по-звериному жестока. Вот, спрашивается, что он плохого сделал тем вонючим мужикам? Да ничего! Подумаешь, жил на их чердаке? Чердак-то большой! Он им и не мешал. Он и к столу, когда мог, всегда что-нибудь приносил: батон там, сырок или даже сладкие перцы. Так нет! Пока он валялся с температурой, они мало того что сперли у него все деньги, которые он выручил за фотографии, так прихватили еще и его вполне приличную ветровку. Сволочи! В конце октября оставили человека совершенно раздетым. Даже обжитой чердак не пожалели, бросили. Сначала Николай огорчился пропажей денег не очень. Он был здорово рад, что поправился, находясь в таких нечеловеческих и антисанитарных условиях, и ничем другим всерьез огорчиться не мог. Он даже не сразу понял, что его обчистили. Он думал, что вонючие мужики просто нашли деньги, которые у него ввиду болезни и бесчувствия выпали из кармана, взяли их и пошли за продуктами. Конечно, если бы он был в полном здравии, то не стал бы тратить сразу все, но раз уж так получилось, то можно устроить и праздник. Все-таки мозги у него варят: знал ведь, что фотки с пленкой представляют определенную ценность. Он, правда, рассчитывал на большую сумму, но теперь, потеревшись в негостеприимной Северной Пальмире, и этой был рад. Мужики не возвращались ни с деньгами, ни с продуктами, ни без таковых. К вечеру следующего дня Николай Щербань понял, что они не вернутся никогда. Есть хотелось немилосердно. Выйти на улицу было не в чем. Преодолев брезгливость, он обошел всю лестницу. Под почтовыми ящиками валялся огрызок маленькой круглой печенины. Он поднял его и жадно сжевал. Есть захотелось еще больше, до рези и спазмов в желудке. Николай вернулся на чердак, накинул на плечи грязную тряпку, на которой спал и которую вонючие мужики ему оставили, и вышел на улицу. Довольно долго он стоял, дрожа всем телом, посреди детской площадки и делал вид, что его абсолютно не интересуют помойные баки. В конце концов голод опять пересилил брезгливость и чувство собственного достоинства. Щербань вздохнул, запахнул на исхудавшей груди свою тряпку и двинул к бакам. Перебирая двумя пальцами мусор, от которого воняло, как от его чердачных сожителей, из удобоупотребимого Николай нашел только половину недогрызенного яблока и пластиковый стаканчик с остатками клубничного йогурта. Утолить голод эта скромная трапеза, разумеется, не могла. Из последнего бака Щербань выудил вполне чистую и толстую женскую бордовую кофту с большими блестящими пуговицами. Она была несколько траченной молью, но от холода могла защитить получше его тоненькой курточки. Николай радостно нацепил кофту на себя, заметил на кармане вышитые синие цветочки, но решил не обращать внимания на подобные пустяки. У него теперь иной социальный статус. Ему не до цветочков. Любого человека подержи-ка в голоде и холоде, он тебе не только бабью кофту наденет, а еще и лифчик сверху, чтобы теплее было. Зажрались людишки!
От стен здания метро, у которого Щербань расположился с протянутой рукой, его своими дубинками отогнали целых три толстомордых мента. Можно подумать, что один не справился бы. Конечно, просить милостыню унизительно, но ему надо было набрать хотя бы на батон. А выглядел Николай для нищего подходяще. После болезни он здорово исхудал, щеки ввалились и заросли грязно-серой щетиной чуть ли не до самых глаз. Поверх бордовой кофты, которая все-таки не очень спасала от холода, он набросил свою чердачную тряпку. Чем не нищий? От метро Щербань двинул к Владимирскому собору. Что ж, на паперть, так на паперть! Выбора у него нет. Да в Питере его и не знает никто. Чего стыдиться? А голод – он вообще всякий стыд отбивает.
У ограды собора прямо на мокром асфальте сидел грязнючий мужик неопределенного амплуа. То ли у него не было одной ноги, то ли он ее так ловко подогнул под себя, что ее не было видно. Еще у него был прикрыт сизым веком левый глаз, но Николаю показалось, что именно из-под этого отвратительного века мужик очень зорко за ним следит. Донышко его веселенького голубенького стаканчика от сметаны «Пискаревская» было полностью закрыто мелочью. Щербань прикинул, что на батон явно хватило бы. Садиться в лужи, подобно этому мужику, Николаю было слабо, да тот наверняка и не потерпел бы рядом с собой конкурента.
У входа в собор стояла одна худенькая старушка в клетчатом мальчиковом пальтеце, кокетливой ярко-сиреневой шляпке с цветком и в совершенно разбитых сапогах, перевязанных бельевой веревкой по причине сломанных «молний». У старушки было две ноги, нормальные веки и никаких видимых увечий. Скорее всего, ее социальное положение было близким к положению Щербаня. Николай пристроился напротив старушки и по ее образцу вытянул вперед ковшиком руку. Она у него даже тряслась, как у старушки, ввиду сильной слабости. Старушка терпела его присутствие недолго. Когда в его протянутый «ковшик» опустили первый рубль, она исчезла в недрах собора и вернулась с толстым страшенным существом неопределенного пола в черном сатиновом рабочем халате, надетом на что-то меховое. Из-под серой солдатской шапки-ушанки, завязанной под подбородком, на Щербаня выкатились налитые кровью глаза.