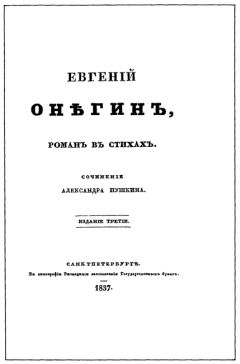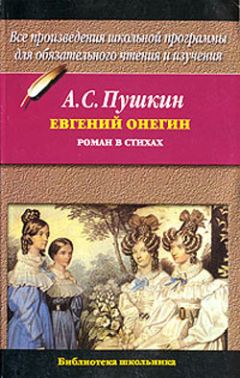Эвелин Энтони - Шаг до страсти
Маргарет посмотрела на него с выражением, которого он никогда раньше не замечал. Она умела мимикой лица передавать самые разные эмоции, он знал их как свои пять пальцев. Чаще всего на ее лице он читал презрение и неприязнь, временами приступы ярости превращали эту красивую женщину в мегеру. Она не ответила, она ждала, не меняя незнакомого ему странного выражения лица. Казалось, она собирается с силами перед безудержным взрывом. Не услышав ответа, он вынужден был повторить вопрос:
— У меня затерялась зажигалка. Ты не видела ее?
Она расстегнула сумочку, вытянула перед ним кулак и потом разжала его.
— Вот что я нашла, — сказала она. — Похожа на зажигалку, правда? Сначала я так и подумала, стала ею пользоваться, пока не кончился газ. Я хотела перезарядить, но нажала не на тот рычажок.
Зажигалка лежала у нее на ладони, и он понял, что произошло. Створка, скрывавшая глазок камеры, была открыта, вероятно, что-то заело в уголке.
— Сначала я не поняла, что это такое, — сказала Маргарет Стефенсон. — Попробовала развинтить и что-то сломала. Теперь тебе, дорогой, не придется больше фотографировать, верно?
— Не придется, — согласился Фергус. Если бы между ними были иные отношения, он бы блефовал. Можно было как-то объяснить существование этой крошечной камеры; другая женщина проглотила бы какую угодно ложь, и ей бы в голову не пришло истинное объяснение. Но двадцать лет пребывания в обороне убили в нем способность сколько-нибудь убедительно вводить ее в заблуждение. Она доминировала во всех случаях, убивала его одним словом или взглядом, владея моральным оружием, которое он сам же вложил ей в руки. Что бы он ни сказал, она сразу понимала, правда это или нет, она обладала удивительным свойством вскрывать любые его оборонительные системы и вытягивать из него истину, как кишки. Он мог бы с любым другим противником придумать правдоподобное объяснение, на это у него хватило бы смелости и сообразительности. Но с Маргарет он даже не пытался проделать это.
— Нужно было запирать этот проклятый ящик, — сказал он. — Никогда не думал, что ты пойдешь в мой кабинет. Сам виноват.
Маргарет еще сдерживалась. Она с такой силой сжимала зажигалку, что края больно врезались в ладонь, но неизбежный вопрос она задала тем же угрожающим презрительным тоном:
— Зачем тебе такая вещица? Что ты тайно фотографируешь? В какое же дерьмо ты попал на этот раз?
Он не догадался, куда она клонит, осознание вины помешало ему понять, что жена имела в виду сексуальные, а не политические увлечения.
— Никакое это не дерьмо, — возразил он. — Но не думаю, чтобы ты поняла. Ты в жизни не имела идеала.
— Идеала? — Она быстро менялась в лице, и на фоне кричащего фиолетового платья оно сделалось страшным.
— Идеала, — повторил Фергус. — Абстрактного представления о том, как усовершенствовать человечество. Я верю в это уже очень давно. Ты назовешь это дерьмом, предательством, чем угодно, но я не согласен. Я думаю, все, что я делаю, правильно.
Пока он произносил эти слова, она стояла и вдруг почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Она тяжело опустилась на банкетку и ухватилась за угол трюмо — от толчка звякнули стоявшие рядами флакончики и пузырьки.
— Предательство, — услышал он ее шепот. — Предательство... Боже мой! Так вот чем ты занимаешься! — Она сидела с полуоткрытым ртом, в глазах отразился такой ужас, что Фергус буквально остолбенел.
— Кто тебе платит?
Он покачал головой:
— Никто мне не платит, Маргарет. — Она, казалось, не слышала его.
— Русские... вот кто! Наверное, опять педерастия, и ты у них на крючке!
— Нет, — ответил он. — Ты все еще не понимаешь. Шантаж тут ни при чем. Меня никто не заставляет ничего делать. Я делаю это, потому что так хочу. Я верю в это со времен Кембриджа.
— Веришь — во что? — Она почти выплюнула в него это последнее слово. Постепенно она брала себя в руки и потрясение сменялось отвращением такой силы, что ему невольно на миг захотелось отскочить от жены, чтобы она не вцепилась в него своими длинными ногтями и острыми зубами.
— Коммунизм, — сказал он. — Я стал коммунистом. Задолго до того, как встретил тебя. — Он сделал жест, совсем печальный. — Прости, — сказал он. — Еще один удар для тебя. Я бы очень хотел, чтобы ты поняла, что я чувствую. Жаль, что нам так и не удалось поговорить друг с другом о важных вещах.
Он отвернулся, по всему телу разлилась слабость, стало подташнивать. Несмотря на то что он так много перенес, ему не хотелось причинять ей страдания. Он не ожидал, что она вдруг разразится слезами. Сколько же лет прошло с тех пор, когда он в последний раз видел, как она плакала! Ее слезы испугали его, лишили уверенности. Он подошел к ней, протянул платок, который она резко вырвала из его руки.
— Не подходи ко мне, не смей подходить ко мне! Гад, грязный предатель! Предатель! Коммунист — стоишь тут и говоришь, что коммунист, и еще просишь, чтобы я попыталась понять тебя?
— Не кричи, — сказал он. — Нас могут услышать.
— Да, — в неистовстве бросила ему в лицо Маргарет. — Да, могут! На, забирай эту гадость! — Она кинула в него маленькой золотой зажигалкой. Та пролетела мимо и ударилась в стену. Маргарет повернулась к зеркалу и принялась поправлять макияж, с силой хлопая ящиками и размазывая пудру по лицу. Затем поднялась.
— Пошел вон из моей комнаты, — прошипела она. — У меня встреча с маркизой, и я уже опаздываю. С глаз моих долой!
Он поднял с пола зажигалку, великолепно изготовленную. Даже от удара о стену она не разбилась. Золотая зажигалка с подделанным клеймом «Тиффани». Это он сам придумал, а его вербовщики одобрили. Сунув ее в карман, он вышел и неслышно притворил за собой дверь. Он никогда не производил шума, если это от него зависело. Как-то раз его бабушка, внушительная викторианская дама, заметила в его присутствии об одном взрослом человеке:
— Джентльмен не хлопает дверью. — Этими словами нарушитель был навсегда отрешен от их дома. Фергус запомнил это на всю жизнь.
Стефенсон прошел к себе в кабинет и присел к письменному столу. Он отчетливо помнил свое детство. Отец с матерью были какими-то тенями, с которыми он встречался в установленное время между пятью и пятью тридцатью; они запомнились ему необыкновенно высокими, а то, что они делали за пределами детской, казалось таинственным и непонятным. Его память заполняла заменяющая мать нянюшка, которой его отдали родители. В отличие от описываемых во всех популярных брошюрах извергов-нянь, чьею бесчеловечностью объясняют несчастья, впоследствии постигшие детей, тот выбор, который он сделал в жизни, никак не объяснишь влиянием няни. Его любили и лелеяли, конечно, пока он оставался хорошим ребенком, и в процессе воспитания он не был искалечен. В годы возмужания, постигая собственную натуру, он пытался анализировать мотивы, по которым он пошел совершенно в ином направлении, чем можно было бы предположить по его воспитанию и окружению. Разгадка лежала не в его прирожденной человечности или атеизме, к которому он пришел еще в школе. С его темпераментом он столь же легко мог бы добиться не менее блестящей карьеры и в церкви. Но сонная англиканская церковь тридцатых годов не могла привлечь его ничем позитивным. Не будь его окружения, он мог бы очутиться в лоне догматических сил, под которыми подразумевали римскую католическую церковь. Но для Фергуса, учитывая его происхождение, воспитание и атмосферу, в которой он вырос, католики были такими же еретиками, как диссиденты и нонконформисты. Он нередко говорил о себе, что он слабый человек, — и весьма несправедливо. По своему характеру он нуждался в том, чтобы им руководили сообразно его интеллекту и эмоциональному настрою, — система классовых привилегий и государственная служба, в условиях которых проходили первые десятилетия его жизни, не давали удовлетворения ни первому, ни второму. Найди он для себя такой авторитет, Фергус стал бы способен на большую отвагу, упорство и жертвенность. Эта потребность оставалась в нем все еще не удовлетворенной ко времени, когда он поступил в университет и обнаружил, что он к тому же и гомосексуалист.