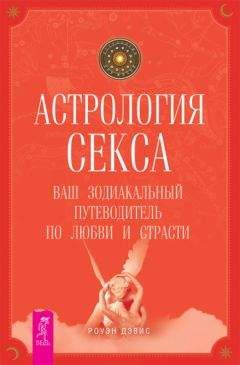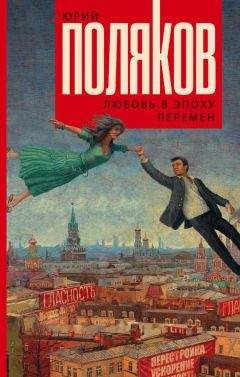Марна Келлог - Бриллиант
Я все еще сердилась на сэра Крамнера, так жестоко покинувшего меня, хотя ко времени кончины ему исполнилось девяносто два года. Я так сильно тосковала по нему, что казалось, потух некий свет, озарявший до сих пор мою жизнь. Его нет вот уже почти три года, но не было ни единого дня, чтобы я не думала о нем и о том, как сильно люблю его до сих пор. Я хотела, чтобы он вернулся ко мне хотя бы на несколько минут, чтобы еще раз поцеловать его сладкие, смеющиеся губы.
Но по мере того, как проходили дни, месяцы и годы, а я вроде бы так и не приблизилась к собственной смерти, стало ясно, что пора становиться на прежний курс. Я устала от одиночества. И не с кем было поговорить.
Скорее бы вернуться на свою маленькую ферму в Провансе, лежать на солнышке, вдыхая запах лаванды, и слушать жужжание пчел. Обедать с друзьями. Провести вторую половину жизни с людьми, любящими все то, что люблю я. Проблема только в том, что с таким прошлым, как мое, это не слишком просто.
Глава 3
Моя жизнь началась в день моего восемнадцатилетия, когда сэр Крамнер Баллантайн, в то время неотразимый джентльмен шестидесяти одного года, приказал водителю остановить машину и предложил подвезти меня, заметьте, в самую бурю, когда я, промокшая до костей, спотыкаясь и всхлипывая, брела по Карнаби-стрит в дурацком узеньком палево-розовом мини-платьице и сапожках на высоких каблуках, к которым абсолютно не подходила и которые абсолютно не подходили мне. Как физически, так и эмоционально. Я не была совместным созданием Мэри Квонт-Карнаби-стрит. Я была пухленькой маленькой девчонкой с фермы, скорее Эй-там, Джорджи-малышка, чем Твигги. Оклахома, представляете себе, Оклахома в Европе, двадцатый город, тридцатый день турне-марафона, организованного университетом штата Оклахома, куда я попала, получив стипендию геологического факультета, причем, клянусь, не почерпнула там ничего полезного. Просто ходила на занятия и ждала, сама не зная чего. Наверное, чуда.
Осознание того неприятного факта, что я совершила не только серьезную, но и дорогостоящую ошибку в моде, унесшую остатки свободных денег на весь конец путешествия, зародилось и что-то стронуло в душе, повергнув меня в отчаяние и одиночество и вынудив увидеть неприятную истину. Я шла по незнакомой улице в незнакомом городе чужой страны, в проливной дождь, переживая нравственное очищение, нервный срыв, катарсис. Моя жизнь зашла в тупик. Я зашла в тупик. Я была испорченным товаром. Все, что я рассказывала о себе, было ложью. Я так отчаянно старалась вписаться в атмосферу студенческой жизни, что создала совершенно новую личность, не имеющую ничего общего с настоящей, личность со своей правдоподобной историей, включая любящую семью, которая трагически (и весьма уместно) погибла при пожаре на нашей большой молочной ферме поблизости от Клео-Спрингс.
— Может, вы читали об этом случае? — спрашивала я сестер по женскому землячеству. — Вся наша ферма сгорела дотла. Даже в газетах писали: я единственная, кто спасся. Это был настоящий кошмар.
— О да, — сочувственно отвечали мне, — я действительно что-то припоминаю. Какая жуть!
Это, разумеется, была просто любезность с их стороны. Милые девушки из приличных семей. Не могли они помнить пожара, которого не было. Но им и в голову не приходило, что кто-то, такой сладкий-сладкий, как сахарная пудра на кокосовом пирожном, пухлый-пухлый, как сочная слива, и непритязательный, как участница церковного хора, сумеет сочинить столь мрачную историю. Они не подозревали, что перед ними первоклассная лгунья.
Начать с того, что я не имею никакого отношения к фермам. Я шваль с нефтяных промыслов. Отца вообще не знала, мать жила на дне бутылки виски, в убогом трейлере, таком тесном и провонявшем дешевыми духами, каким может быть только трейлер шлюхи с нефтяных разработок, то есть кого-то вроде полковой проститутки.
Только моя нора, гордо именуемая спальней, была чистой и аккуратной, поскольку я единственная имела туда доступ. На двери был замок, а ключ имелся лишь у меня, хотя, поверьте, воровать особенно было нечего.
Я родила в пятнадцать с половиной лет и отдала ребенка чужим людям, даже не взглянув ему в лицо. До сих пор не знаю, мальчик это или девочка, как не знаю его отца. Помню только, как лежала в постели «Флоренс Криттенден хоум», одном из целой сети благотворительных убежищ по всей стране, куда девушки, «попавшие в беду» (в противоположность «неблагополучным» девушкам, каковой я впоследствии стала), приходили, чтобы родить ребенка и сразу отдать на усыновление. Этот был в Омахе, и я проплакала два дня, чувствуя себя неимоверно, неправдоподобно опустошенной.
Несложно определить, что именно в это время мое сердце сгустилось в непроницаемый, непробиваемый кусок льда, невосприимчивый ни к какому воздействию, кроме самых поверхностных царапин, дающих иногда возможность пролить слезу над мелодрамой чужой жизни, но в остальном застывший неподатливой глыбой. Мое сердце было герметично закрыто и надежно защищено от более глубоких ран.
Лежа там на чистом белом белье, я вдруг сообразила, что никто на этом свете не знает, кто я и где нахожусь, а следовательно, никому до меня нет дела. У меня также хватило ума понять, что это можно рассматривать либо как трагедию, либо как шанс.
И тогда я решила, что у меня будет хорошая жизнь. В то время не была уверена, что в точности это означает и каким образом я собираюсь добиться цели. Ясно было одно: у меня более грандиозные планы, чем следовать по стопам матери. Я хотела стать кем-то значительным.
Я покинула «Криттенден хоум» с письмом менеджеру по персоналу универмага «Мэй компани» в Талсе и уже через несколько недель начала довольно приличную жизнь в качестве продавщицы отдела мужских аксессуаров. Свои скудные заработки я дополняла воровством.
Вскоре я сумела переехать из пансиона в собственную маленькую однокомнатную квартирку. Часами стояла перед зеркалом в ванной, слушая по радио «Битлз» и «Супримс» и пробуя на себе каждый совет косметолога из журнала «Севентин»: покупала щипчики, пемзу, бритвы, все оттенки теней, светлую помаду, лак и шиньоны. На свою кожу я тратила целое состояние. Но поскольку была девочкой не худенькой — по-моему, я и родилась с лишними двадцатью пятью фунтами, — у меня не хватало ни уверенности в себе, ни мужества носить весь этот шик на людях. Несмотря на то что окружающие часто называли меня хорошенькой, я считала себя жирной, непривлекательной и всячески сторонилась общества. Довольно грустный способ преуспеть в избранном виде деятельности — к сожалению, подобные девушки умеют становиться невидимками, если захотят, что успешно проделывают до сих пор. Или проделывали. Похоже, времена меняются.