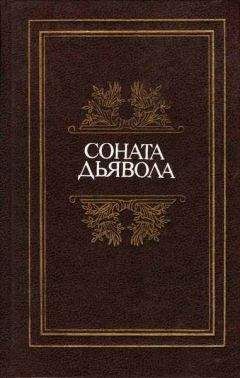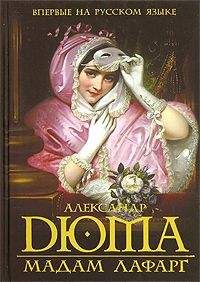Александр Дюма - Полина
«Вы меня любите!.. Благодарю, благодарю!»
IX
Я провела ужасную ночь, ночь рыданий и слез. Вы, мужчины, не понимаете и никогда не поймете мучений молодой девушки, воспитанной под присмотром матери; девушки, чье сердце чисто, как зеркало, еще не замутненное ничьим дыханием, чьи уста ни разу не произнесли слова «любовь», — и вдруг она, как бедная, беззащитная птичка, оказывается во власти более могущественной, чем ее сопротивление, чувствует такую сильную, увлекающую ее руку, что не может ей противостоять, слышит голос, говорящий ей: «Вы меня любите», прежде чем сама она произносит: «Я люблю вас».
О! Клянусь вам, не понимаю, как я не лишилась ума в продолжение этой ночи: я считала себя погибшей. Я повторяла шепотом и беспрестанно: «Я люблю его!.. Я люблю его!» — и это с ужасом столь глубоким, что и теперь еще не знаю, не была ли я во власти чувства, противоположного тому, которое, как я думала, овладело мной. Однако возможно, что все волнения, испытываемые мною, были доказательствами любви, поскольку граф, а от него ни одно из них не ускользнуло, толковал их таким образом. Что касается меня, то подобные ощущения я испытывала в первый раз. Мне говорили, что не нужно бояться или ненавидеть тех, кто не сделал нам зла; я не могла тогда ни ненавидеть, ни бояться графа, и если чувство, которое я питала к нему, не было ни ненавистью, ни страхом, — оно должно было быть любовью.
На другой день утром, в ту самую минуту, когда мы садились завтракать, матушке и мне принесли визитные карточки графа Ораса де Бёзеваля. Он прислал узнать о моем здоровье и спросить, не имело ли мое нездоровье каких-нибудь последствий. Это столь раннее посещение показалось моей матери простым доказательством учтивости. Граф пел со мною в то время, когда случился обморок, и это обстоятельство извиняло его поспешность. Моя матушка тогда только заметила, что я выглядела утомленной и больной; сначала она встревожилась, но я успокоила ее, сказав, что чувствую себя неплохо и деревенский воздух излечит меня окончательно, если ей угодно возвратиться в замок. Мать всегда соглашалась со мной; она приказала заложить коляску, и около двух часов мы отправились туда.
Я бежала из Парижа с такой же поспешностью, с какой четыре дня назад бежала из деревни, ибо моей первой мыслью, когда я увидела визитные карточки графа, было опасение, что, едва наступит час, когда можно наносить визиты, он появится лично. Я хотела бежать, чтобы не видеть его больше. Я была уверена: после того, что он обо мне подумал, после получения его записки я умру от стыда, если увижусь с ним. Все эти мысли, проносившиеся в моей голове, бросили меня в жар, и матушка решила, что в закрытом экипаже слишком душно. Она велела кучеру остановиться, и слуга откинул верх коляски. Стояли последние дни сентября, приятнейшие дни года. Листья на некоторых деревьях начинали краснеть. Есть что-то весеннее в осени, и последние ароматы года похожи иногда на его первые запахи. Воздух, природа, беспрестанный, печальный и неопределенный шум леса — все это успокоило меня, как вдруг на повороте дороги я заметила мужчину, ехавшего верхом. Он был еще далеко от нас, однако я схватила матушку за руку с намерением просить ее возвратиться в Париж, потому что узнала графа, но вовремя одумалась. Как могла я объяснить эту перемену настроения, которая показалась бы беспричинным капризом? И я собралась с духом.
Всадник ехал шагом, и скоро мы поравнялись с ним. Это был, как я сказала, граф.
Он подъехал к нам, как только заметил нас, извинился, что так рано прислал узнать о моем здоровье, но объяснил, что уезжает сегодня на несколько дней в деревню к господину де Люсьенну и не хотел покинуть Париж, не узнав о моем самочувствии; если можно было бы явиться к нам в такое время, он приехал бы сам. Я пробормотала несколько слов; моя матушка его поблагодарила.
«Мы также возвращаемся в замок, — сказала она, — на весь оставшийся сезон».
«Тогда позвольте мне проводить вас», — ответил граф.
Моя мать поклонилась, улыбаясь. Все это было так просто: дом наш находился в трех льё от дома господина де Люсьенна, и к обоим домам вела одна дорога.
Итак, граф скакал рядом с нами все пять льё до нашего дома. Мы ехали довольно быстро, ему трудно было все время держаться возле дверцы, поэтому за всю дорогу мы обменялись лишь несколькими словами. Когда мы приехали в замок, граф спешился, подал руку моей матери, чтобы помочь ей выйти из экипажа, потом предложил помощь мне. Я не могла отказаться и, дрожа, протянула руку. Он взял ее без живости, без трепета, как у всякой другой, но я почувствовала, что он оставил в ней записку, и прежде чем я смогла сказать слово или сделать движение, граф обернулся к моей матери и поклонился, потом сел на лошадь, хотя матушка уговаривала его немного отдохнуть. Направившись в сторону замка Люсьенн, он сказал, что его там ждут, и скрылся из виду через несколько секунд.
Я стояла неподвижно на том же месте, сжатые пальцы держали записку, и я не смела уронить ее, но решила не читать. Матушка позвала меня; я последовала за ней. Что делать с запиской? У меня не было огня, чтобы сжечь ее, а если разорвать — могли найти кусочки; я спрятала записку за корсаж платья.
Я еще никогда не испытывала мучения, равного тому, какое ощущала, пока не вошла в свою комнату: записка жгла мою грудь. Казалось, некая сверхъестественная сила сделала каждую строчку ее видимой для моего сердца, которое почти касалось ее; этот листок бумаги имел магическую силу. Наверное, в ту минуту, когда мне была вручена эта записка, я бы разорвала или сожгла ее без размышления, но в своей комнате не сумела собраться с духом. Я отослала горничную, сказав ей, что разденусь сама, потом села на постель и долго пробыла в таком положении, неподвижная, устремив глаза на руку, сжимавшую записку. Наконец я развернула ее и прочла:
«Вы любите меня, Полина, а потому избегаете. Вчера Вы покинули бал, где я был, сегодня уезжаете из города, где я нахожусь, — но все бесполезно. Бывают судьбы, которые могут никогда не встретиться, но встретившись, уже не должны более разлучиться.
Я непохож на других людей. В возрасте, когда другие наслаждаются и радуются, я много страдал, много думал, много тосковал. Мне 28 лет. Вы первая женщина, которую я полюбил. Я люблю Вас, Полина.
Благодаря Вам, если Бог не разрушит этой последней надежды моего сердца, я забуду прошлое и стану надеяться на будущее. Только прошлое не во власти Бога, и только прошлое не может быть утешено любовью. Будущее принадлежит Богу, настоящее — нам, а прошлое — небытию. Если бы Бог, а он может все, сумел бы дать забвение прошедшему, на свете не было бы ни богохульников, ни материалистов, ни атеистов.