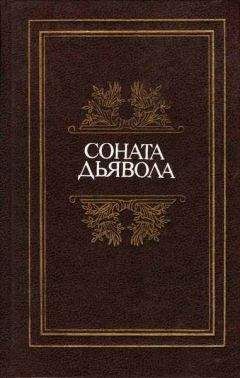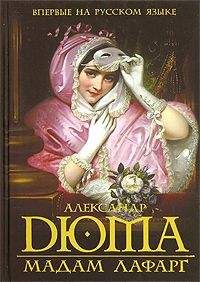Александр Дюма - Полина
Через минуту тишина восстановилась. Новый исполнитель сел за фортепьяно; я услышала предостерегающее «Тише!» в соседних залах и решила, что любопытство присутствующих сильно возбуждено, однако не смела поднять глаза. Резкий аккорд пробежал по клавишам, за ним последовала медленная и печальная прелюдия, потом проникновенный звучный и сильный голос запел такие слова на мелодию Шуберта:
«Я все изучил: философию, право и медицину; изучил сердце человека; посетил недра земли; придавал уму своему крылья орла, чтобы витать под облаками. И к чему привело меня это долгое изучение? К сомнению и унынию. Правда, у меня уже нет ни мечты, ни недоумения, я не боюсь ни Бога, ни Сатаны; но я купил эти выгоды ценой всех радостей жизни».
С первого же слова я узнала голос графа Ораса. Вы легко поймете, какое необычайное впечатление должны были произвести на меня эти слова Фауста в устах того, кто пел их. Впрочем, он подействовал одинаково на всех. Минутное глубокое молчание воцарилось за последней нотой; она улетела, жалобная, как скорбящая душа; потом со всех сторон раздались бешеные рукоплескания. Я осмелилась тогда взглянуть на графа. Для всех, может быть, лицо его было спокойно и бесстрастно; но для меня легкий изгиб его губ ясно указывал на то лихорадочное волнение, что вспыхнуло в нем во время посещения нашего замка. Госпожа М. пошла к нему, чтобы поздравить его; тогда он принял улыбающийся и беззаботный вид, который светские приличия требуют от самых озабоченных умов. Граф Орас предложил ей руку и сделался таким же, как и все; по манере, с которой он смотрел на нее, я заключила, что он делает ей комплименты относительно ее туалета. Продолжая говорить с ней, он бросил на меня быстрый взгляд, повстречавшийся с моим; я едва не вскрикнула, ибо оказалась в какой-то степени захваченной врасплох. Без сомнения, он увидел мое состояние и сжалился, потому что увлек госпожу М. в соседний зал и исчез вместе с ней. В ту же минуту музыканты дали знак к кадрили; первый из моих кавалеров бросился ко мне; я взяла машинально его руку, и он повел меня куда ему было угодно: я танцевала. Вот все, что могу вспомнить. Потом следовали еще две или три кадрили, и за это время я немного успокоилась; наконец танцы остановились, чтобы опять дать место музыке.
Госпожа М. подошла ко мне; она просила меня принять участие в дуэте из первого акта «Дон Жуана». Я сначала отказалась, чувствуя, что, помимо естественной робости, не смогу в эту минуту пропеть хотя бы одну ноту. Матушка заметила наш спор и, движимая материнским самолюбием, подошла, чтобы присоединиться к графине, обещавшей аккомпанировать. Я боялась, что, продолжая противиться, позволю матушке догадаться о моем состоянии; я так часто пела этот дуэт, что не нашла основательного предлога отказаться и должна была уступить. Графиня М. взяла меня за руку, подвела к фортепьяно и сама села за него; я стала за ее стулом, опустив глаза и не смея взглянуть вокруг себя, чтобы не встретить опять взора, следовавшего за мной повсюду. По другую сторону от графини стал молодой человек; я осмелилась поднять глаза на своего партнера — дрожь пробежала по моему телу: это был граф Орас, это он должен был петь партию Дон Жуана.
Вы поймете, как велико было мое волнение, но отказываться было поздно: все глаза были устремлены на нас. Госпожа М. уже играла прелюдию. Граф начал; мне казалось, что другой голос, другой человек пел, и когда он произнес: «Là ci darem la mano»[1], я вздрогнула, надеясь, что ошиблась; мне казалось невероятным, что могучий голос, заставлявший нас дрожать от мелодии Шуберта, мог приобрести интонации живости, такой тонкой и грациозной. С первой фразы шум рукоплесканий пробежал по всему залу. Правда, когда в свою очередь, дрожа, я запела: «Vorrei е non vorrei mi trema un poco il cor»[2], в голосе моем было такое выражение страха, что раздались продолжительные рукоплескания, сменившиеся глубокой тишиной: нас хотели слушать дальше. Я не могу выразить, сколько было любви в голосе графа, когда он начал: «Vieni, mio bel diletto»[3], и сколько обольщения и обещаний в этой фразе: «Io cangierò tua sorte»[4]; все это было так близко мне; этот дуэт, казалось, так хорошо выражал состояние моего сердца, что я почти готова была лишиться чувств, произнося: «Presto non so più forte»[5]. Здесь музыка переменилась, и вместо жалобы кокетки Церлины прозвучал крик самой глубокой скорби. В эту минуту я почувствовала, что граф приблизился ко мне и что рука его дотронулась до моей руки; в глазах моих потемнело, и я схватилась за стул графини М., сильно сжав пальцы; благодаря этой опоре я могла еще держаться на ногах; но когда мы начали вместе «Andiam, andiam mio bene»[6] и я почувствовала его дыхание на своих волосах и плечах, дрожь пробежала по моим жилам; когда я произнесла слово amor[7] — все силы мои истощились и я упала без чувств…
Матушка бросилась ко мне, но она опоздала бы, если бы графиня М. не подхватила меня. Обморок мой был приписан духоте; меня перенесли в соседнюю комнату; соль, которую давали мне нюхать, отворенное окно, несколько капель воды, брызнутых в лицо, привели меня в чувство. Госпожа М. настаивала, чтобы я вернулась в залу; но я ничего не хотела слушать. Мать, обеспокоенная моим обмороком, была на этот раз согласна со мной; она велела подать карету, и мы вернулись домой.
Я тотчас удалилась в свою комнату. Снимая перчатку, я уронила бумажку, очевидно вложенную в нее во время моего обморока; я подняла ее и прочла слова, написанные карандашом:
«Вы меня любите!.. Благодарю, благодарю!»
IX
Я провела ужасную ночь, ночь рыданий и слез. Вы, мужчины, не понимаете и никогда не поймете мучений молодой девушки, воспитанной под присмотром матери; девушки, чье сердце чисто, как зеркало, еще не замутненное ничьим дыханием, чьи уста ни разу не произнесли слова «любовь», — и вдруг она, как бедная, беззащитная птичка, оказывается во власти более могущественной, чем ее сопротивление, чувствует такую сильную, увлекающую ее руку, что не может ей противостоять, слышит голос, говорящий ей: «Вы меня любите», прежде чем сама она произносит: «Я люблю вас».
О! Клянусь вам, не понимаю, как я не лишилась ума в продолжение этой ночи: я считала себя погибшей. Я повторяла шепотом и беспрестанно: «Я люблю его!.. Я люблю его!» — и это с ужасом столь глубоким, что и теперь еще не знаю, не была ли я во власти чувства, противоположного тому, которое, как я думала, овладело мной. Однако возможно, что все волнения, испытываемые мною, были доказательствами любви, поскольку граф, а от него ни одно из них не ускользнуло, толковал их таким образом. Что касается меня, то подобные ощущения я испытывала в первый раз. Мне говорили, что не нужно бояться или ненавидеть тех, кто не сделал нам зла; я не могла тогда ни ненавидеть, ни бояться графа, и если чувство, которое я питала к нему, не было ни ненавистью, ни страхом, — оно должно было быть любовью.