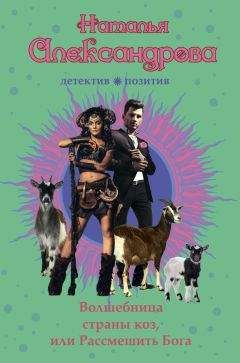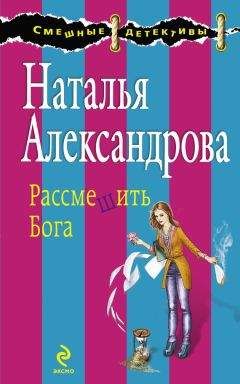Елена Кашева - Рассмешить бога
Я вижу изломы его тела. Я могу положить руку на его грудь и почувствовать, как бьется сердце.
Я не смогу пережить его смерть. Лучше уйти первой. Но, говорят, что тот, кто остается, сильнее страдает. Господи, ты меня слышишь? Я согласна взять тяжесть одинокой старости на себя. Я согласна пройти эту муку, но только спустя много-много лет, когда мы будем дряхлыми, и жизнь будет нам в тягость. Тогда моя совесть будет чиста перед мужем и перед тобой. Я скажу: сделала все, что в моих силах.
Слезы катятся по лицу. Я отворачиваюсь к стене.
– Эй, девочка моя, ты что? – Стас трогает меня за плечо. Мне страшно, – я уже рыдаю взахлеб. Слишком много мне пришлось пережить за последние полтора месяца.
Стас перебирается ко мне на диван и крепко-крепко обнимает горячими сильными руками. Ждет, когда я выплачусь и успокоюсь. Мелко-мелко целует мои волосы. Я затихаю от долгожданной нежности. Засыпаю, как когда-то, положив голову на его плечо, и на грани яви и сна ловлю тихую мысль: «Господи, как хорошо!»
***
– Козел! – Стас яростно хлопает дверью, вернувшись с работы.
– Кто козел? – любопытствую я.
– Глебаня.
– Вот те раз! – искренне изумляюсь я. – Что-то случилось?
– Откуда этот урод свалился на мою голову?
– Да он же твой закадычный приятель еще со школьной скамьи! Что, не поделили что-то?
– Хапуга! За нос меня водит.
Садимся ужинать. Стас негодует:
– Сунулся в финансовые документы втихаря от него. Смотрю, – деньги прикарманивает. Приличная сумма набегает. Что делать – не знаю. В лицо все высказать? Ментами пригрозить?
– Поговорить. Просто поговорить, нормальным тоном.
– Да ни хрена он не поймет! Он зарывается. Морда наглая. Кажется, что он скоро будет смеяться надо мной не за спиной, а в лицо.
Стас швыряет вилку, подходит к окну, закуривает. Я внимательно смотрю на него, Это что-то совсем уж новенькое.
– Ну что ты так смотришь? – раздражается муж.
– Я тебя таким не помню.
– Заладила «помню – не помню», «помнишь – не помнишь»!- взрывается Стас. – Ничегошеньки я не помню! Только твои рассказы о нас. А сами картинки – не помню! Запахи не помню, лица, звуки – ничего нет! Как магнитофонная лента – затерли, только треск стоит.
Я подхожу к Стасу и бережно обнимаю его.
Он утыкается мне лицом в ключицу, сильно стискивает плечи.
Молчим.
Остываем.
– Света, у тебя остались духи, которыми ты пользовалась, когда я за тобой ухаживал? – вдруг спрашивает Стас.
– Нет.
– А какие они были, помнишь?
– Конечно.
– А музыка? Свет, какая была музыка, когда мы с тобой первый раз занимались любовью?
– Не до музыки нам было. Перепились, упали в кровать.
Стас поднимает лицо:
– Какая страсть!
– Не надо, Стас…
– Слушаю тебя порой и думаю: как же ты со мной жила все это время? Маменькин сынок, тридцать лет, а своего ума не нажил, все чужим пользовался…
– Глупенький, – я тихо глажу его голову. – Мне было с тобой хорошо. Ты – ласковый, нежный, терпеливый… Ты даже не представляешь, какой ты терпеливый. Я за тобой, как за каменной стеной. Ты – самый лучший… Я так тебе завидую! У тебя есть дело, любимое дело, призвание. И ничем это призвание из тебя невозможно выбить. А у меня никакого якоря в жизни… Мой якорь – семья.
Вижу, как подозрительно влажно блестят его глаза:
– Светка, ближе тебя у меня никого нет…
– У меня тоже…
И это чистая правда.
***
…Мне уютно. Мой подбородок точно ложится в ямку над ключицей Стаса. Мы смотрим в темноту.
– Мне хорошо, – тихо шепчу я.
Он целует меня в пробор.
– Света, привези дочку, – просит Стас. – Я скучаю по ней.
– Правда?
– Она маленькая и беспомощная.
– Ну что ты! Она большая и сильная. Может запросто вырвать клок волос из твоей шевелюры,
– Я помню чувство тревоги за дочь. Причины тревоги не помню. А само чувство давит.
Настроение мое гаснет.
– А что еще ты помнишь? – осторожно спрашиваю я.
– Помню, что когда она родилась, я был счастлив.
– Да, ты был очень счастлив, – подтверждаю я. – Два часа торчал под окнами роддома. Нос у тебя на ветру стал красный-красный. Сам похмельный, с бутылкой пива. Я тебе дочку в окошко показала, и ты заплакал.
Стас целует меня в ухо. Сейчас я не хочу, чтобы к нему вернулась память. Но я хочу, чтобы он вспомнил свою любовь ко мне. Любовь – и только лишь,
– А про поезд помнишь что-нибудь? – осторожно спрашиваю я.
– Нет. Знаешь, во сне выплывают какие-то обрывки. Вскакиваю… Нет, не помню.
– Как ты думаешь, это была случайность или наводка?
Стас ерзает в постели. Наконец сознается:
– Я боюсь об этом думать. Если наводка – значит, убийца рядом.
– У меня из головы Глеб не выходит. Мне кажется, что это его проделки.
– Нельзя торопиться с выводами.
Я тихо целую его плечо.
– Стас, будь осторожен. Не ходи темными улицами. Вдруг Глеб наймет какого-нибудь наркомана?
– Не болтай глупостей. Мы столько лет общаемся с Глебом. Он не может желать мне смерти…
– Почему? Он такой беспринципный и наглый…
– Он вор, но не убийца…
– Я бы не была в этом так уверена…
– Спи, – Стас снова тычется губами мне в маковку.
Вот мы и вместе. Как раньше. Как будто ничего не изменилось. Но изменилось все.
Я – другая. Стас – другой. Однако, те же декорации и люди вокруг нас. Странно.
Стас гладит меня по голове. Мне кажется, он любит меня. Только меня. Его любовь – бесконечная, всепрощающая, трепетная.
Но сегодня мне хочется любить самой. До отчаяния, до боли, до жертв. Самой.
***
На улице первый снег. Сквозь него просвечивает темный асфальт. У Стаса сквозь новые воспоминания выплывают пугающие меня обрывки прошлого. Он разговаривает во сне. Иногда я слышу отчетливо: «Наташа…».
Первый раз я вскочила как ужаленная. Но утром Стас не обмолвился ни словом. Если он что-то и вспомнил, то ничем не выдал себя. А я сгорала от желания раскроить его черепушку, чтобы заглянуть внутрь: ну, о чем ты думаешь?
Потом я поняла, что сны, где он зовет Наташу, тают бесследно по утру. Иногда вскакивает среди ночи и мечется по комнате, сжимая руками раскалывающуюся от боли голову. Что-то выплывает, но он никак не может ухватиться за эти обрывки.
Звонит мама:
– Что у вас нового?
– По-прежнему.
– Он вспомнил Наташу?
– Нет.
– Расскажи ему о ней.
– Нет.
– Расскажи. На обмане счастья не построишь.
– Не сейчас, позже. Мне надо укрепить свои позиции.