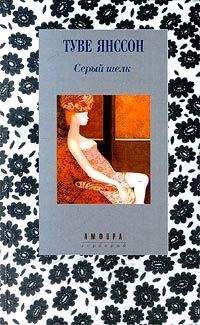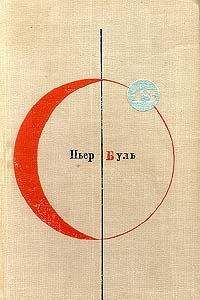Людмила Бояджиева - Портрет в сандаловой рамке
— Ерунда! В танце главное взгляд. Когда ты смотришь на меня так, я могу перенести даже ампутацию без анастезии.
— Извини… Вообще-то я дивно вальсирую. Но с тобой… Парализован силой чувств…
— И так будет всегда… Нет. Еще лучше. Прогрессирующий паралич нежных чувств. Ты сказал — сегодня особый день.
— Особый. Не поверишь — за все сорок лет я ни разу никого не просил стать моей женой.
— Какая скука! Надеюсь, следующее сорокалетие пройдет повеселее.
— Вот как раз об этом я и хотел тебя просить…
И они закружили по веранде… Нет! Они кружили над озером, над замершими камышами, над цветущим лугом и были самыми счастливыми людьми в мире…
Хоровое пение, особенно в исполнении изрядно подгулявших офицеров, не способно заглушить никакие вальсовые трели. На террасу ввалилась празднично настроенная группа немецких офицеров, братски обнимавших друг-друга за плечи и певших нечто оптимистическое — с присвистом и притопом. Один из них, пучеглазый и толстогубый, остановил хор взмахом руки, попытался вывести соло и замер, сбитый звуками вальса. Хористы развеселились. Увидав патефон, пучеглазый набычился, наливаясь кровью и яростно, одним ударом кулака сшиб его на пол.
— Вот этого нам не надо! Нам надо другое… — офицер запел марш, подбадривая горланящую компанию. — А почему поют не все? — заметил он сидевшую за угловым столиком пару. — Эй, господа лягушатники, мы позволяем вам принять участие в веселье. Пойте с нами — хозяевами Европы!
Анна и Мишель окаменели.
Один из офицеров, отделившись от группы, подошел к их столику.
— Вот так встреча! Да это моя знакомая мадмуазель! Но не невеста. — Вернер, так неудачно снявшийся с Анной в мастерской Тисо, зло расхохотался, обращаясь к своим друзьям: — Обратите внимание, господа — не невеста! Будешь петь с нами — Неневеста! — Вернер схватил Анну за руку, пытаясь вытащить из-за столика.
Мишель вскочил, но вышедший с подносом Поль, тесня его в сторону, любезно обратился к немцам:
— М-м-моя гостья — п-подружка вон того мсье. Он п-прекрасный фотограф. Сейчас сделает ваш снимок. В такой п-п-праздник, господа офицеры, надо сделать ф-фото на память! У девушки болит голова и они решили провести вечер на свежем воздухе…
Один из подгулявших офицеров, с красными кулаками мясника, схватил парня за плечи: — А у тебя что болит, урод? Горло? Башка? Кричи: «Да здравствует победа!» Громче и без этих твоих кривляний. Смотри, не намочи штаны от страха. А то выкину в озеро — нам не нужны дрожащие вонючки. Ну! «Зиг хайль!» — Встряхнув парня, немец поволок его к парапету.
Анна кинулась наперерез: — Не трогайте его, он же болен!
Поль изо всех сил попытался заорать «Зиг хайль..», но на букве «х» его заклинило, из открытого рта вырывалось лишь хриплое шипение. Он закашлялся, сплевывая слюну. Немец стиснул кулаки:
— Нарочно устраиваешь цирк, сволочь! Сейчас будешь харкать кровью по настоящему! — удар в лицо свалил парня с ног. Анна бросилась к нему, зажимая платком струящуюся из разбитого носа кровь.
— Отпустите его! — крикнула она немцам побелевшими губами. Вы все… Вы — мерзавцы!
Но последнее слово немцы, ржавшие от удовольствия, доставленного забавной сценой, не услышали. Мишель успел закрыть Анне рот ладонью и усадить на стул. Заслонив ее спиной, галантно обратился к офицерам:
— Тысяча извинений, господа, мадмуазель слишком много выпила. Зиг хайль! Позвольте сделать памятное фото? — он открыл объектив.
— Уже сделал, ублюдок, — Вернер вырывал у Мишеля фотоаппарат и швырнул о камни. С жалобным звоном разлетелись, сверкнув в косых лучах солнца, осколки умного объектива.
11Анна жила в большой квартире, принадлежавшей некогда ее отцу — профессору германисту брюссельского Университета. Старый дом, большие сумрачные комнаты, из которых Анна больше всего любила кабинет отца, еще пахнувший дымом его сигар. Книжные полки, поднимавшиеся до самого потолка, хранили тьму интереснейших книг, темная резьба на старинном бюро была знакома с детства, как и напольные часы, чинно качавшие тяжелый, отливавший золотом маятник.
Свернувшись калачиком в углу зеленого плюшевого дивана, Анна упорно следила за движением латунного диска и совершенно не замечала мечущегося из угла в угол Мишеля.
— Только посмотри на меня! Пожалуйста, посмотри! — молил он.
— Уходи, — Анна даже не повернув головы.
— Ты все равно не помогла бы Полю. Ты не убедила бы этих людей. На их стороне сила, пойми! Если бы они вздумали арестовать тебя, я не смог бы помочь тебе.
— Понимаю: ты — трус. Уходи.
— Если я сейчас уйду, мы никогда больше не увидимся. Ты твердо решила, что так надо, что все было обманом?
— Все было ошибкой, — Анна села, натянув на колени плед. — Страшной ошибкой. Я не могу любить труса. Ты же боялся за себя! Я видела: ты боялся их! — она разрыдалась, с болью выкрикнув последнее: — Уходи!
— Да, боялся! — Мишель стоял рядом, не решаясь утешить ее.
— Вот из-за таких маленьких людишек и плодится большое зло. Я ненавижу фашистов! Ненавижу! — маленькие кулачки заколотили гобеленовую подушку. Мишель поймал их и крепко сжал в своих сильных руках.
— Пусти, мне больно!
— Вначале послушай меня, — он сел рядом. — Я тоже ненавижу. Когда делаю их портреты, воображаю, что работаю для надгробия. Просто сатанею! Но я хочу жить. Должен жить. Именно потому, что ненавижу и не хочу, чтобы плодилось зло. Твоя ненависть сильнее разума. Я не могу позволить им уничтожить меня. Я сильный, я должен бороться.
Анна долго смотрела в его глаза, открывая то, то всегда пряталось в их глубине: — Ты… Ты не просто фотограф… Ты в «Сопротивлении»? Скажи, скажи, что так!
— Клянусь, я сделал бы все, чтобы задавить их. Но я не могу больше ничего рассказывать о себе. Особенно тем, за кого больше всего боюсь. Если со мной что-то случиться, они схватят тебя и… И тогда я действительно могу оказаться трусом.
Анна бросилась к нему на шею: — Прости! Прости меня… Мы будем осторожны, очень осторожны. Ведь они не сумеют победить всех? Всех, кто ненавидит и проклинает их?
Мишель посмотрел на Анну в упор и проговорил веско и твердо:
— Надеюсь, когда-нибудь они сумеют победить свою болезнь сами.
Анна отвернулась и спрятала лицо в ладонях: — Я сейчас скажу одну вещь, и ты меня бросишь… Я должна, должна сказать… Нет, не скажу!
— Анна, пожалуйста, не мучай себя. Я давно догадался обо всем. Ты даже не представляешь, как это глупо — судить о человеке по его национальности… По цвету кожи, форме черепа..
— Это мерзость, варварство!