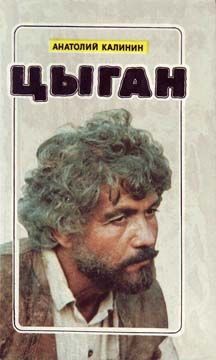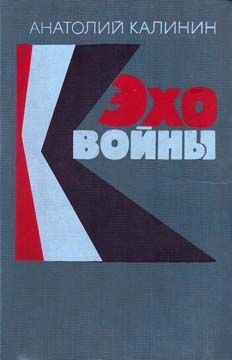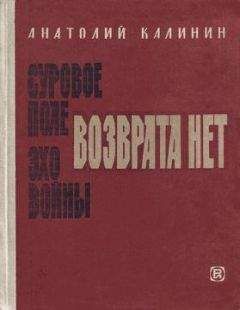Наталья Калинина - Любимые и покинутые
Устинья молча погладила Машу по голове.
— Он поймет когда-нибудь…
— Но уже поздно, Устинья. Я все для себя решила. Я не хочу страдать. Не хочу зависеть от прихоти мужчины. Не хочу считать любовь солнцем, вокруг которого вращается вселенная жизни. Я хочу жить, Устинья. А Бог — это смерть плоти, это насилие над собой. Во имя чего, Устинья?
Устинья молчала. Она верила в Бога, но вера ее не простиралась дальше каждодневных молитв с просьбами о благоденствии для ближних. Понятие «Бог» сливалось в ее сознании с понятием «добро», «справедливость». Такова, кстати, была концепция отца Юлиана. Помнится, он говорил когда-то: «Боги языческие требуют от человека жертв. Бог христианский, напротив, пожертвовал собой ради людей. Бог — это прежде всего любовь».
— Коречка, только не надо никого осуждать, а тем более ненавидеть, — осторожно заговорила Устинья. — Нет ничего тяжелее, чем жить с ненавистью в сердце. Нужно уметь прощать. Это трудно, очень трудно, зато потом… потом становится легко.
Обе долго молчали, и Устинья уже подумала было, что Маша уснула, как вдруг та сказала:
— Я думаю, мы все должны оставить маму в покое. Иначе она… Понимаешь, Устинья, ей больно все, что напоминает о папе. А мы с тобой напоминаем ей о нем. Даже… отец напоминает. — Она тихонько рассмеялась. — Как странно, Устинья, у меня оказалось два отца. Настоящий меня бросил, ненастоящий любит больше собственной жизни. А мама… Мне кажется иногда, что на самом деле ты моя мама. Устинья, у тебя есть свои дети?
Устинья тяжело вздохнула.
— Был. Сын. Но он… погиб в войну. Сгорел заживо. Меня тогда не было с ним — я была на работах в Германии.
— Бедная, бедная ты моя… — Маша стала осыпать поцелуями плечо Устиньи, гладить ладошкой по ее волосам. — А как его звали?
— Янек, Ян.
— У него отец нерусский был или же ты назвала его так в честь польских предков своей мамы?
— Его отец поляк, — тихо сказала Устинья.
— Как у меня. — Маша вздохнула. — Жаль, что он погиб. Наверное, он был очень хороший и красивый. На кого он был похож?
— На отца. Ян был очень похож на своего отца.
— Ты… ты родила его… как это сказать… Ну, в общем, ты родила его, когда была не замужем, да?
— Почему ты так думаешь, коречка?
— Потому что я видела твой паспорт, и ты в нем Ковальская. Мама говорила, ты папина родная сестра. Значит, Ковальская — твоя девичья фамилия.
— Нет, коречка, это не девичья фамилия. Это фамилия твоего папы. Видишь ли, я была его женой еще до того, как он встретил твою маму.
Маша молчала и не шевелилась. Так продолжалось минут десять, но вдруг Устинья услышала не то стон, не то всхлип.
— Ты что, коречка? — Она подняла от подушки голову и попыталась заглянуть Маше в лицо, но оно все было закрыто ее длинными, распущенными на ночь волосами. — Ты плачешь, моя коханочка?
— Да. Только я плачу от радости. От того, что ты — моя мама. Я поняла сейчас, что ты любишь меня так сильно потому, что ты — моя мама.
— Коречка, это…
— Нет, нет, молчи. Я понимаю — меня родила не ты, а Маша, которую я очень, очень люблю и никогда не забуду. Но… как бы тебе это объяснить… ты все равно моя мама. Через папу, через твою любовь к нему, даже через смерть твоего Яна. Если бы он был жив, у меня бы был самый настоящий старший брат и я… я, быть может… Ах, Устинья, я ничего не знаю, не понимаю. Я, наверное, еще совсем маленькая. — Она вздохнула. — В Толе, мне кажется, я увидела прежде всего брата. Но ведь я не знаю, какие чувства должна испытывать сестра к брату. Я… мы так запутались. Но, я, кажется, все равно люблю его, Устинья…
Они заснули, тесно прижавшись друг к другу. Устинья проснулась первая и долго смотрела на безмятежно спящую на ее плече Машу, не замечая, что по ее щекам текут слезы.
Калерия Кирилловна навсегда обосновалась в Москве, прописав в своей ленинградской комнате в огромной коммуналке на Невском сына умершей в блокаду двоюродной сестры. Их деревянный дом на Васильевском острове сгорел дотла во время войны, племянник вернулся с фронта и, узнав о смерти матери, пытался покончить с собой, вскрыв опасной бритвой вены.
Его спасли. Калерия Кирилловна почти полгода не спала ночами, выслушивая рассказы Славика о детстве, о крови, которую ему довелось видеть на фронте, о матери, в смерти которой он винил Сталина (это было еще до развенчания его культа Хрущевым). Калерия Кирилловна очень боялась, что эти разговоры могут подслушать соседи и донести в энкэведе. Она не спорила со Славиком — к тому времени идейности в ней значительно поубавилось, а та, что оставалась, приняла более-менее человеческий характер. Она только говорила ему: «Тише, Бога ради, тише. Дядю Сережу Богданова расстреляли за куда более невинные слова».
Потом Славик устроился петь в ресторане — у него был высокий тенор и диплом об окончании музыкального училища, правда, по классу народных инструментов. Он пользовался успехом у женщин, но, кажется, предпочитал общество мужчин. Калерия Кирилловна полюбила Славика, хотя материнское чувство в ней не проснулось даже с годами. Он часто давал ей деньги на мелкие расходы, никогда не водил в квартиру женщин, был аккуратен в быту. К тому же она чувствовала себя в некотором роде его спасительницей. Прописав Славика, Калерия Кирилловна со спокойной совестью уехала в Москву «стеречь профессорскую квартиру». Она знала, что Маша вышла замуж за ответственного партработника и козыряла этим перед управдомом, все еще не потерявшим надежду заработать на чужой жилплощади.
Николаю Петровичу, время от времени наезжавшему в Москву, удалось поставить управдома на место. Маша Богданова, дочь профессора Богданова, все еще была прописана в этой квартире (о чем было засвидетельствовано в домовой книге). К тому же у нее родилась дочка. Управдом во время разговора один на один с Соломиным попытался получить с него хотя бы тысчонку-другую — ведь дело было все-таки не законным, ибо Маша Богданова в этой квартире больше не проживала, а была наверняка прописана на какой-то другой жилплощади. Иметь же две прописки советскому человеку запрещалось категорически, будь он хоть самим секретарем ЦК. Предусмотрительный Николай Петрович показал управдому Машин паспорт, где черным по гербовой бумаге было написано, что гражданка Богданова проживает именно в этом доме, управляемом этим наивным управдомом, очевидно, не привыкшим иметь дело с ответственными партработниками пусть даже областного значения. При этом Николай Петрович как бы вскользь упомянул фамилии двух товарищей из ЦК партии, которые были на слуху не только у сего злополучного управдома, а, пожалуй, у всей страны. И управдом в который раз был вынужден ретироваться. Калерия Кирилловна, к которой Николай Петрович зашел по старой привычке выпить чайку, заверила его, что ляжет на пороге трупом, но никого не пустит. На том они и расстались.
Как-то поздно вечером раздался долгий звонок в дверь, и Калерия Кирилловна, уже лежавшая в постели с томиком Голсуорси в руках, набросив халат, с опаской приблизилась к двери.
— Кто там? — робким девичьим сопрано спросила она, даже не представляя себе, кто может стоять за этой некогда обитой натуральной кожей, а нынче напоминающей вход в диккенсовскую ночлежку дверью.
— Тетя Каля… Милая тетя Каля, — послышалось из-за двери.
Калерия Кирилловна распахнула ее резким рывком, очутилась в Машиных сильных объятьях, задохнулась в ее неизменных парижских духах.
— Мой остров цел? — чуть ли не с порога спросила Маша. — Я приехала на свой остров. Калечка, дорогая, мне нельзя было уезжать с этого острова. Но теперь я снова здесь.
Она кружилась по комнатам — красивая, очень взрослая, уверенная в себе, и Калерия Кирилловна искренне порадовалась за племянницу, наконец, как ей показалось, обретшую душевный покой. На ней был модный беличий жакет, в ушах поблескивали бриллиантовые серьги.
— Ты одна? — спросила она. — А как муж, дочка?
— О, они в полном порядке. А я… я просто устала от провинции и хочу хоть немного подышать столичным воздухом. Походить по театрам, концертам… Калечка, дорогая, здесь все как… как всегда, — тихо закончила Маша и опустила крыльями трепетавшие руки. — Нет, мне противопоказано прошлое, и я отныне буду жить только настоящим.
Она быстро разделась, оставшись в тонком кружевном белье и чулках с черной пяткой, потом принялась разбирать свои два чемодана, вешать на плечики платья, раскладывать по полочкам белье Калерия Кирилловна пошла на кухню ставить чайник. Когда она вернулась, чтобы позвать племянницу к столу, Маша лежала совершенно нагая поперек широкой кровати и смотрела в окно, на большую желтую луну.
— Ну вот, все как прежде. Come prima. Начнем, что ли, сначала? Ведь к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Правда, Калечка?..