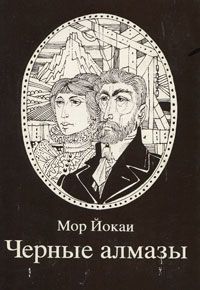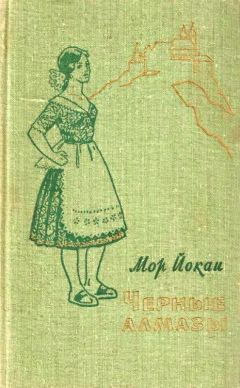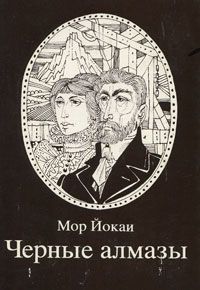Николай Семченко - Что движет солнце и светила (сборник)
Нищие, давно поделившие рынок на свои сферы влияния, сначала гнали Александра отовсюду и однажды даже побили, но он упорно приходил снова и снова. Нинка-одноножка первой поняла, что этот молчаливый мужик, видимо, повредился в уме. Её опытный глаз определил, что новичок, так сказать, из приличной семьи: одежда чистая, манеры — интеллигентные, курит, но не пьёт, и по всему видно: должен быть в полной мужской силе.
А Нинке, надо сказать, давно уже надоели эти запашистые бичи, у которых атрофировалось всё, что надо и не надо, но зато гонору и гонореи было хоть отбавляй. Она и сама, конечно, любила принять на грудь, из-за чего, кстати, и пострадала: упала пьяная в сугроб, а очнулась уже в больнице, где ей и отчекрыжили полноги. Но при всём том Нинка вообразила, что она ещё вполне даже ничего и достойна лучшей партии, нежели какой-нибудь подзаборный забулдыга.
— Не троньте его! — сказала Нинка. — Базар большой, места всем хватит! А кто не понял, тому сама бейцалы откручу…
И её послушались. Но Рыба — так Александра окрестила базарная компания — почему-то никак не откликался на Нинкины знаки внимания и даже всячески её избегал.
Решив, что она должна развернуть все свои боевые знамёна, Нинка осушила для храбрости флакончик фруктового ароматизатора и отправилась к Рыбе в гости. Она давно выследила, где он обитает, а поскольку Рыба никогда не появлялся в обществе какой-нибудь «тёлки», то Нинка по своей простоте решила: бабы у него нет.
Дверь, однако, открыла Ольга.
Нинка-одноножка, упершись костылем в стенку, доложила ей, что без Рыбы ей жизнь не в жизнь и ты, мол, сестренка, пропустила б к нему.
Ольга быстро сообразила, что к чему, и Нинка была с позором изгнана. А молчаливого Рыбу с помощью подружек удалось устроить в отдельную палату психушки — за хорошую плату, конечно. Но деньги Ольга только зря потратила. Врачи объяснили, что у ее супруга глубокий эмоциональный шок, чем-то всё это напоминает маниакально-депрессивный синдром, и тут ничего не поделаешь: либо наступит улучшение, либо он останется Рыбой, потому что так ему нравится, и на медицину надеяться нечего.
* * *Триста двадцать два! Ты была зрительницей.
Да-да, зрительницей! Тебе нравилось, чтобы вокруг было красиво, много дорогих вещей, м чтобы я вписывался в эту картину, как какая-нибудь статуэтка. Ты меня слушала, но не слышала, а мне так хотелось, чтобы меня понимали по-настоящему. По-ни-ма-ли! Триста тридцать…
Знаешь, я обрадовался, прости, даже возликовал, когда этот твой чёртов банк лопнул. Ты была такой несчастной и потерянной, будто лишилась смысла жизни…Ты — смысл… смысл? И то, и это, и ещё вот это — ничто или всё? Всё — ничто и ничто — всё…Можно думать, думать, думать, пока не упрёшься в то, чего ты ещё недодумал, но начнешь думать об этом и поймёшь, что преграда отодвигается в бесконечность, и это сводит с ума. Ты тоже отодвигалась от меня… Ты не хотела, чтобы я прикасался к тебе во сне, и отодвигалась, и отталкивала, и царапала моё плечо, руку, спину, и тогда я отодвигался сам… Триста сорок одна!
Одна ты жить не можешь. Ты не выносишь одиночества. Если в доме включено радио, гремит музыка, работает телевизор (о, этот ласковый и хищный зверь, пожирающий наше время!) — значит, ты одна. И боишься. Боишься остаться наедине с собой. А мне надо много, много, много одиночества, чтобы передумать все мысли. Их — рой, они кружат, как рассерженные пчёлы, и каждую нужно неторопливо ухватить, осторожно…
Осторожно! Опять — яма! И роют, и роют эти траншеи. Что они тут пытаются найти? Ямы, траншеи, котлованы — везде…Триста пятьдесят восемь…
О, как я глуп! Ямы — это норки, куда прячутся гусеницы, жуки и муравьи, чтобы побыть в одиночестве. Вон какая роскошная мадам Гусеница продефилировала к куче глыб и глины, тяжко взволокла свою упитанную тушку наверх и, кажется, обнаружила уютную «пещерку», ну-ну, давай, отшельница, уединяйся для дневных медитаций — это нынче модно, и что доступно тебе, то, увы, дано не каждому из тех, которые мнят себя царями Земли. Их дома переполнены чадами и домочадцами, мебелями и тряпьём, их квартиры — не для размышлений, там слишком душно и нет простору…
Но ты, Ольга, устроила для меня норку. Ты называешь её: конура этого идиота, и ты специально запираешь меня на ключ, чтобы… да, чтобы никто не смел мешать мне думать! А для себя ты привела Лёху. Кажется, ты нашла его по объявлению в газете? Но я не против, пожалуйста: будьте вместе, если вы две створки одной раковины. А настоящая Рыба — одна, ей никто не нужен, и только однажды, когда прозвучит призыв — о, нет, он не звучит, он возникает где-то внутри, этот невыносимо прекрасный голос, который зовёт и тебя самого, и других Рыб вперёд, к той точке, где любовь — это смерть, а смерть — любовь и новая жизнь, и мы сливаемся в одно целое, чтобы дать начало миллионам новых существ, и в каждом из них — твоя частичка, крошечная, меньше макового зёрнышка, даже глазу не видимая, но это неважно: поток жизни возвращается в океан, и каждая новая Рыба — это и ты, и не ты, триста семьдесят три…
Ты разучилась любить, ты научилась только доказывать и бороться, и побеждать, и не сдаваться… А я? Что — я? Я — другой, мне всё это — скучно, ни к чему, слишком хлопотно, и я лежу на дне, и мне ничего не надо, и это ужасно, потому что мог бы попытаться стать таким, как ты хочешь. Но в том-то и штука, что другим быть не хочу: другой — в твоём представлении! — это уже не я. Мне нравится видеть жизнь прекрасной, и даже если она кажется — всего лишь кажется, поверь — безобразной, лживой, неухоженной и скучной, она всё равно прекрасна, как изумительно очаровательна, допустим, серая мерзкая жаба, у которой, если вглядеться, такие яркие и чистые глаза, как две звёздочки, упавшие в болотную тину…О, меня понесло, и понесло, и понесло…Стоп! Запутался…Ага, вспомнил: четыреста одна секунда… Если жизнь вдруг становится невыносимой, то я ныряю в волшебную глубину своих ощущений, я ищу то, что по-настоящему красиво… Триста восемьдесят девять! О, ты не знаешь, как это прекрасно: сидеть у окна и смотреть на закаты. Они такие разные и необычные. У меня собралась коллекция избранных закатов. Вчера я видел огненно-красное облако, всего три секунды оно было таким, а потом луч солнца отразился от реки и там, где он коснулся облака, оно порозовело и засеребрилось, как чешуя аухи — это было фантастично! Но тебе некогда смотреть на небо. Когда ты в последний раз поднимала глаза вверх? А, то-то и оно! У тебя теперь своё дело, мадам…Хватит, кажется, и трёхсот тысяч. Всего — триста, и ты в раю. Триста…Ах, черт, запутался! Ну да, конечно: четыреста тридцать одна!
* * *— Да пошёл ты, козёл! — Лёха положил трубку и ещё раз от души выругался. Ему уже был хорошо знаком этот голос — молодой, наглый, с легким придыханием, будто парень только что пробежал стометровку и полностью на ней выложился…
Телефон снова затренькал, но Лёха трубку не снял. Наверняка опять этот извращенец звонит: ему, видите ли, нужна какая-то Лена, которая неделю назад занималась с ним любовью по телефону, и это было так классно, что он два раза подряд кон…
— Чикнуть бы тебе ножичком по яйцам, Челентано тебе в рот! — возмутился Лёха и закурил «Мальборо». Он считал себя стопроцентным мужиком, и всё, что хоть сколько-нибудь отклонялось от жестких традиций, не только не понимал, а даже готов был изничтожать, давить, топтать, отправлять на плаху, костёр и виселицу. Любовь, по его мнению, — это просто естественное отправление организма, а все эти вздохи, прогулки при луне, страдания и душевные томления — глупости и выдумки малохольных, оправдывающих так свою мужскую несостоятельность. Ну, ещё так ведут себя юнцы, на мордах которых фонтанируют прыщи, которые никаким «Клерасилом» не усмиришь, пока они не научатся втыкать свой «шланг» куда надо и сливать буйные свои гормоны — для здоровья и нормальной кожи, а не из-за какой-то там любви. Вот тоже выдумали, ялдачи! У самого Лехи осечек в этом деле никогда не было. Ольга даже то ли в шутку, то ли всерьёз предлагала ему подрабатывать в фирме: нашлись бы и дамы, и господа, желающие позабавиться с его неунывающим «Ванькой-встанькой».
— Да пошел ты…, — выругался Леха ещё раз, когда телефон после короткой передышки снова затрезвонил. Он подумал, что опять звонит этот ненормальный.
— А с кем ты, милый, базаришь? — услышал Лёша голос Ольги. Она вошла в квартиру неслышно, даже дверью, как обычно, не хлопнула.
— Привет! — обрадовался Лёха. — Меня тут один придурок затрахал. Подавай ему секс по телефону!
— А что? Это идея! — весело сказала Ольга. — Поря расширять количество услуг! Правда, Зинаида?
Лёша, который обычно ходил дома в трусах, сконфузился: всё-таки, как ни был хорош собой — высокий, мышцы накачаны, живот поджарый, а перед посторонними людьми, тем более женщинами, стеснялся представать неглиже. Но чтобы надеть брюки, ему надо было выйти в прихожую, где стоял шкаф: его одежда, даже домашние «треники», висела там.