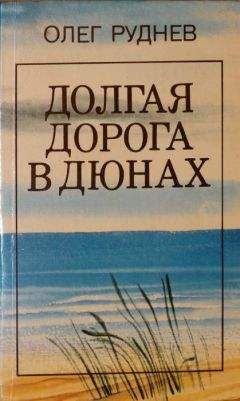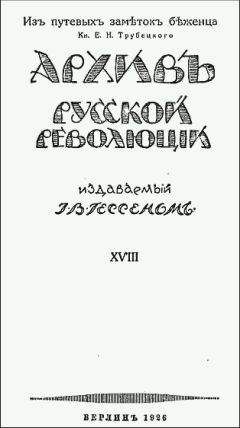Олег Руднев - Долгая дорога в дюнах-II
— Выпьем за встречу, за знакомство.
Чокнулись, выпили. Водка обожгла горло, забила дыхание. «Крепкая, дьявол», — подумал Николай. Он подавил желание раскашляться и с улыбкой, как ни в чем не бывало, взглянул на новых знакомых:
— Вот это водка! Такую пить — и помирать не захочется. Сила!
Маруся смотрела недоверчиво, а Иван сиял от удовольствия.
Говорили о пустяках. Но Николай чувствовал, что разговор впереди. И не ошибся.
— Вы, я вижу, все думаете, что мы за люди? — спросила Маруся, отодвигая рюмку. — Прицепились — не отцепишься. А я вам скажу — родич вы мне. Вот что. — И, заметив удивленный взгляд Николая, пояснила: — Не тот родич, как принято считать. Просто вы русский и я русская. Я уже вам говорила — вы плохого ничего не думайте. Я такая ж советская, как и вы. Но только не поверите — за двадцать пять лет первого русского вижу. Я вам расскажу, все расскажу… Правильно, Ваня, надо рассказать?
Николай уже давно догадался, с кем имеет дело. Он бывал за границей, встречался с такими людьми. Понимал, что уклоняться от разговоров с ними не нужно, но встреч этих не любил. А встречи были разные. И с молодыми, что знали свою родину не лучше, чем потусторонние планеты, и с пожилыми, что жили воспоминаниями и наслышкой. Разговаривал с добрыми и злыми, несчастными и самодовольными, умными и дураками. Видел друзей и недругов, доброжелателей и провокаторов. С врагами все было просто и ясно. Ответ для всех один. Но вот одураченных и несчастных было жалко. Он выслушивал их объяснения, сочувствовал, давал советы, но… Но не любил.
— До войны я жила в Киеве, — рассказывала Маруся. — Ну, вы знаете, что это за город и какая жизнь была у нас в то время. Ну да хоть и не помните, вам, наверное, рассказывали. Жили мы хорошо. Отец работал, мать тоже. Кроме меня, еще двое братов было. Старший ходил в десятый класс, я в седьмой. Младший еще был совсем малюсенький. Его тоже Мыколой звали, как вас. Жили мы справно. И тут на тебе, германец двинулся с войной. Что творилось тогда… Думали наши его раз-два и разобьют, а оно не так получилось. Пошел и пошел немец, и никакого удержу ему нет. Забрали моего отца в армию. Как сейчас помню: прибежал он домой весь такой серый, в шинели, в обмотках. Не знаю, есть ли у нас еще обмотки в армии? Нету? Оно и правильно… Ну, прибежал отец. Говорит: дали час на прощанье с семьей. Мать в слезы, мы тоже. Да что плакать? Не поможешь этим. Война есть война. Весь народ тогда пошел. Побыл он у нас, посидел. Так ни о чем и не поговорили. Все нас, детей, ласкал. А потом встал, говорит: пора. Ну что? Проводили мы его до поезда. Покричали вместе со всеми, кто там был, да и пошли домой. Пришло с фронта от него только одно письмо. Писал, что жмет проклятый германец. А что там писать, когда оно и так видно. Наши все отступают и отступают. А оно вскорости и похоронная приходит. Так, мол, и так, погиб ваш батька смертью храбрых. Плакали. Горевали.
Стали братуху в армию готовить. Ему тогда еще и семнадцати не было. Мог бы еще дома побыть. Так нет, все по начальству бегает, в добровольцы записывается. Говорит: «За батьку пойду с ними рассчитаюсь, в Берлине памятник отцу поставлю». Ну, бегал, бегал и добегался. Забрали его раньше срока. Пришел домой и говорит: «Только чтоб ни одной слезинки, не на смерть иду, а за победой, так что нечего друг другу нервы портить». Провожать себя не позволил, так сам и пошел. Мы было с матерью на улицу выскочили, плачем, а он как обернется на нас, как глянет. У самого на глазах слезы, а лицо суровое. Марш, говорит, домой, нечего тут панихиду устраивать.
Одна беда в дом не приходит. Прошло немного времени, пишут нам, что пропал братуха без вести. А потом вскорости получаем похоронную: погиб смертью храбрых. Не довелось, значит, за батьку отомстить. Плакали мы с матерью. А что ты теми слезами поможешь? Тогда тех слез было столько, что ни с одним морем не сравнится. Другие потом и за батьку, и за братуху отомстили. Оно, конечно, хорошо, да своего не вернешь.
Пошла я в госпиталь работать. Думали, не дойдет немец до Киева, а он, смотри, проклятый, и рядом. Начали к эвакуации готовиться.
И как оно случилось — кто из нас виноват? — опоздали мы и остались под немцем. Что тогда творилось — к не приведи, и не дай господи. Всякое нам рассказывали, но не верилось, что люди такое могут делать. А потом как увидели… Разве ж это люди? Ну, да что вам рассказывать! Жили как на том свете. Наших не слышно. Немцы говорят, что Красную Армию разбили, Москву взяли. Не хотели верить, да что сделаешь, если, он прет и сила идет несметная. Вокруг слезы да кровь. Меня мать прятала. Немцы, бывало, только к нашему дому, мать быстренько лицо себе сажей вымажет, меня ложит под перину, а сама сверху. Больно немцы всякой заразы боялись. Какая-то гадина выдала. Пришли, мать избили, а меня угнали в Германию. Рассказывать, как там жилось? Скотинянке и то лучше. Скотину хоть берегли, а мы и за скотину не сходили. Скотину кормили, а нас зачем? Подох и черт с тобой. Других пригонят.
Иван сидел понурив голову. Видно было, что этот рассказ он знает наизусть. То, что рассказывала эта женщина, было близко и знакомо Николаю, навевало тяжелые воспоминания. Мальчишкой он пережил войну. На фронте погибли отец и брат. Сестру угнали в Германию, где она погибла в сорок четвертом, как гласила похоронка. В конце войны он потерял мать и воспитывался в детском доме. И только счастливая случайность свела его снова с матерью. Он хотел спросить, не встречала ли Маруся в Германии его сестру — Галину Солдатенко, но не решился перебить взволнованный рассказ. «Потом спрошу», — решил Николай.
Маруся как будто совсем справилась с волнением и продолжала дальше даже как-то жестоко-холодно:
— Было со мной в Германии то же самое, что и со всеми. Работали мы в имении, пока нас американцы не разбомбили. Решили бежать. Два дня скрывались. Да куда убежишь, кто тебе поможет? Поймали нас, отправили в лагерь, что под Гамбургом. Вот в этом лагере я с Ваней и познакомилась. — Она взглянула на мужа, взяла его за руку. Познакомились мы с Ваней, полюбились. Да какая там жизнь, когда живешь от часу до часу. Не хочу про это рассказывать. Смилостивилась и к нам судьба, освободили нас. Господи, что творилось! И плакали, и смеялись. Все было. Главное — выжили. Немного нас еще подержали в Германии, а потом стали домой отпускать. Я, конечно, хочу к себе, а Ваня с собой зовет. Говорит: «Чего ты домой поедешь? Давай поженимся. А там все хорошо будет. Фашистам конец, границ не будет». Думаю, может, оно и так, да домой обязательно поеду. Говорю ему: «Поеду домой, повидаюсь со своими, а там — раз теперь все хорошо будет — или ты ко мне, или я к тебе, но обязательно встретимся».
Так бы оно, может, и случилось. Да встретила я в Берлине солдатика одного, земляка с нашей улицы. И такое он мне сказал: «Погибли под бомбежкой и мать, и братишка твой младший, весь дом погиб». Помертвело все передо мной. Думаю, осталась ты, Марусенька, одна на всем свете. Маруськой меня в лагере прозвали… Пошли мы с Ваней в комендатуру, рассказали там одному начальнику про наше дело. Что ж, говорит, давайте запрос сделаем. Что-то проходит немного времени, получаем ответ. Точно, не ошибся солдат. Никого у меня не осталось. Вот тогда я подумала, подумала, да и поехала с Ваней к нему на родину.
Мария помолчала, словно собираясь с силами, и продолжала:
— Живем хорошо. И домик свой, и садик, и огород. Деток двоих прижили. Все хорошо. Он работает, я тоже без дела не сижу. Вы вот удивились, что я вас первого русского вижу. А я вам объясню. Живем мы далеко от того порта, в горах. Туда никакие туристы не заезжают. Да и мы тоже никуда особенно не ездили.
Ох, и тосковала я первое время. Бывало, выйду в садок и кричу, кричу: «Мамочка моя родная, земля моя, где ж ты есть?» Та тихо кричу, чтоб Ваня не слышал. Он тоже сильно переживал. Видел, как я мучаюсь. Язык мой выучил, чтоб можно было по-родному говорить, имя свое забыл, так на Ваню и откликается. Мучилась я, мучилась, а потом, знаете, привыкла. Вот вас увидела, так расстроилась. Да вы не обращайте внимания. — И, словно желая прекратить больной для нее разговор, проговорила: — И что это я все время говорю, говорю, а вы молчите? Ну, как там у нас дома дела?
Что рассказать этой женщине? Двадцать пять лет… Говорил он долго и все время злился на себя за то, что рассказ получается сухой. Но Мария удивлялась всему. Она то и дело таращила глаза и недоверчиво поглядывала на Ивана. Тот слушал с большим вниманием и напряжением.
— Что вы говорите! — восклицала Мария. — Ни одного дома разрушенного не осталось? И метро! И новый Крещатик! А лавра? Отстроили! Прямо не верится.
На какое-то время наступило молчание. Николай вертел в руках пустой бокал. Мария что-то перебирала в сумочке. Наконец разлила остатки напитка по бокалам и тихим голосом предложила:
— Давайте выпьем за то, чтоб всегда у вас было все хорошо.