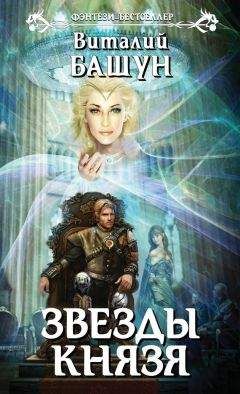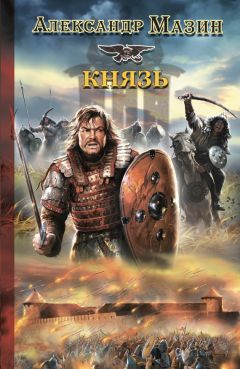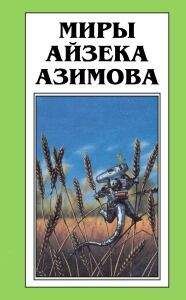Антон Дубинин - За две монетки
— Если все святые были такие… как мы… — сквозь смех выговорил он.
— Думаю, все-таки другие — настоящие, — Гильермо вытер грязную щеку о плечо. Вернее, размазал грязь. Но по крайней мере ощущение, что вытерся, уже хлеб. — Бенуа Лабр — настоящий. И Доминик. И прочие. Voici Dominique et François, Seigneur, voici Saint Laurent et Sainte Cécile… Mais si Vous aviez besoin par hasard d'un paresseux et d'un imbécile…[38]
Марко, и не зная французского, распознал имена святых и верно понятое слово «дурак», так что не переспросил. Каждый имеет право умирать с теми стихами, с которыми хочет. Какое там умирать — когда они жили полнее, когда еще Марко чувствовал себя настолько живым… Однако смех растревожил сломанную руку, и она задергала втрое сильней. Под кожей будто непрерывно жалили осы. Боль не уничтожала мира, но заставляла стонать, и как Марко ни сдерживался, все-таки замычал от боли, изворачиваясь в неудобной позе.
Гильермо исхитрился и положил его голову себе на плечо, приобнял свободной рукой. И ни на миг не вспомнил о любимой немецкой открытке — Иоанн, положивший светловолосую голову на грудь Учителю, двое в позе абсолютного покоя Луллиевых Amic e Amat[39]. Открытке, которую он в прошлой жизни яростно сбросил со стола, сердясь на человека, удумавшего такую невероятную и обидную глупость — влюбиться в него.
— Попробуй уснуть теперь. Постарайся. Хотя бы ненадолго. Когда спишь, не болит.
Тот послушно закрыл глаза. Гильермо чуть сдвинулся так, чтобы малость прикрывать его от света, но собственное лицо его было на свету, и младший, недолго выдержав с сомкнутыми веками, приподнял голову и еще раз взглянул на него, сощурившись, как смотрят на солнце или на сверкающее море. Нету больше места стыду и греху. Он снова ткнулся в плечо Гильермо, нашел в темноте его руку губами, запоминая вкус кожи.
— Все, что я вижу, вижу во сне… А ты наяву…
— Что?…
Марко только улыбнулся. По телу его пробегали тени боли, быстрые и частые, как тени на воде.
— Ночь спокойную и кончину достойную…
— Да пошлет нам Господь всемогущий.
Так вот они, оказывается, о чем — последние строки Комплетория. Вот о чем они молились каждый день перед сном уже столько лет. Об этом. Чтобы в ночь на святого Иакова, первомученика из апостолов, оказаться в котельной на улице Пятницкая прикованными к трубе.
— Вот ведь говорят… — голос тонет в искреннем зевке: спать и правда хорошо, да и хочется. — Говорят же — Италия, чтобы родиться, Франция — чтобы жить, а Испания — чтобы умереть[40]…
— А я все наоборот сделал. Родился во Франции, жил в Италии…
— А умрем, похоже, оба вообще в России.
— Может, и не умрем еще.
— Да ладно. Все-таки, похоже, умрем.
— И что, это причина не спать, пока можно?
— Неа… не причина… конечно.
Гильермо не знал, что еще можно сделать для Марко, сделавшего для него больше, чем кто-либо на свете — кроме Бога и матери. Колыбельная уже была у него на губах, всплывшая ниоткуда, бывшая всегда, от ребра, от маминой теплой темноты, когда он был совершенно защищен ее теплом и еще не знал, что это просто любовь, но уже так в ней нуждался. Камиль качала его сама, на руках, только на руках, никаких колыбелек. Как в лодке. Как уплывать.
— Au clair de la lune, Mon ami Pierrot, Prête-moi ta plume Pour écrire un mot… Ma chandelle est morte, Je n'ai plus de feu, Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu…
— Это про что? — шепотом спросил Марко, покорно уплывая, куда несет река.
— Неужели не знаешь? — Гильермо искренне удивился его невежеству и стал на миг — отстранившись чуть-чуть — совершенным магистром теологии или даже наставником новициев. — Это же каждый ребенок… Да в Италии, наверное, все иначе. У вас лунный человек разве не Пьеро? Тот, кто живет на луне?
— Нет… Не знаю… нам по-русски пели. Котя, котенька, коток… про кота. E venne il gatto…[41] Неважно.
— Спи давай. — Гильермо приобнял его еще крепче, защищая темным теплом. Главное только боль не растревожить. — Спи, Марко. Недолго осталось. Скоро уже.
Сколько преград, с ума сойти, сколько преград люди строят между собою — и только когда приходит что-то большее и сметает преграды, становится удивительно просто.
— В тихом лунном свете,
милый друг Пьеро,
Ты на зов ответь мне,
дай свое перо.
Свечка догорела,
в комнате темно,
Ради Бога, милый,
мне открой окно…
…В тот день он был занят исключительно собой, страшный, по его мнению, тип, руки в карманах, шел, насвистывая хулиганскую песню а-ля местная знаменитость Мишель Валансьен, сорвиголова и даже второгодник. Шел к мусорному баку на главной площади, и всею небольшой массой его тела владела идея (отцовское выражение — «идея овладела массами»): соседи, по слухам, только что выкинули рассохшуюся бочку, нужно успеть отковырять обруч, пока помойку не увезли люди на специальной машине. Обруч от бочки, а то и два, по местному вивьерскому валютному курсу представлял собой чистое сокровище: он свободно обменивался на что угодно у других мальчишек, а кроме того, был ценен сам по себе для любого не чуждого простым радостям жизни обладателя палки с крючком. Но цель похода была позабыта столь же стремительно, сколь казалась некогда абсолютным благом: на ступеньках у питьевого фонтанчика, что напротив публичной школы, на каменном вазоне с бархатцами восседала юная дама, надо сказать, дама незнакомая, взиравшая на людское мельтешение у ног с благосклонной строгостью. Мельтешение, собственно, состояло из юного Дюпона-Пальмы, и только: он умел выбирать время для наемнических рейдов по помойкам, в сиесту всякая живая душа стремилась под крышу да в тень, к холодной сангрии. Юный Дюпон-Пальма вытащил руки из карманов и перестал свистеть. Дама была в чулках и блестящих туфельках — в такую-то жару — и это поразило его окончательно.
— Здравствуйте, мальчик, — церемонно сказала дама и закинула ногу на ногу. Поправила волосы жестом, сделавшим бы честь любой опереточной графине. В волосах у нее, таких же красивых, как у мамы, блестела заколка со стеклянным алмазиком.
— Э… Добрый день.
— Меня зовут Мари-Мадлен Маррон, для друзей просто Мадлен. Я приехала из Тулузы. На лето, — снисходительно пояснила она, чтобы не вовсе сразить юнца своим блеском. — Для лучшего воздуха. Мне полезен хороший воздух. В больших городах летом воздух не очень свежий.
— Вивьер тоже большой, — патриотически вступился мальчик — и тут же пожалел об этом. И о собственном хамстве тоже. — Ну, конечно, меньше, чем Тулуза, — попробовал он спасти положение — и окончательно спас себя тем, что наконец представился. — Я — Гийом. Из Дюпонов, тех, что живут на самом берегу, а не которые с верхнего города. Мои родители делают вино.
(Как ни странно, осознавал священник, внимательно вглядывавшийся в ретроспективу собственной жизни, он уже тогда был Дюпоном — еще до войны с отцом, до нарочитой французскости итальянского автостопщика: был Дюпоном просто потому, что жил в Дюпоновском доме, имя означало и адрес — des Duponts, адрес, понятный всякому вивьерцу, дюпоновский мальчишка, дюпоновский внук, дюпоновский младший, и как это, наверное, было неприятно его итальянскому отцу с другой фамилией, всегда мечтавшему о собственном доме… Прости, пап. Ты просто прости.)
— Будем знакомы, Гийом. Вино — это хорошо, — милостиво одобрила Мари-Мадлен Маррон, для друзей просто Мадлен. — Я люблю вино. Я пью его обычно с водой. А еще я учусь играть на флейте.
А я пишу стихи, едва не вырвалась у юного Дюпона его главная тайна — так близко подкатила к кончику языка, что он даже испугался. В конце концов, кто она ему такая, эта девчонка? Первый раз встретил…
Дама сошла наконец со своего цветочного трона. Под огненным солнцем шелестели струйки фонтана, над головой Мадлен стояла маленькая фонтанная радуга. Следующим вопросом девочка убила его наповал.
— А что вы читаете здесь, в Вивьере?
— За весь Вивьер не скажу, — мстительно сообщил он, — но я, например, тут недавно читал историю короля Артура и Круглого Стола. (В переложении для детей, но об этом мы умолчим — пусть не задаются там, в своей Тулузе!) И, поразмыслив, добавил для солидности: — И про короля Верцингеторикса.
Тут юный Дюпон, положим, солгал: купленную ему к школе историю Франции он только пролистал, счел занудной и отложил в долгий ящик, лишь фрагмент про удушение галльского вождя и запал в душу. Но, впрочем, кому это важно, можно взять и прочитать быстренько вечером! А вот то, что в солнечных глазах Мадлен появился проблеск интереса к его персоне, — это, пожалуй, было действительно важно, да.
— Воображала, — вынес назавтра свой вердикт Анри, старший в их маленькой компании. Друзья сидели у него в саду, на старых веревочных качелях и вокруг них, на бревнышках, как стайка воробьев на проводах. Садик родителей Анри был, наряду с Дюпоновским виноградарским домиком, одним из главных штабов пятерых друзей, в то время как весь город представлял собой зону военных действий. — Ломается, тоже мне принцесса в чулочках! Подумаешь, из Тулузы! У меня вот дядя в Париже, что ж я теперь, испанский король?