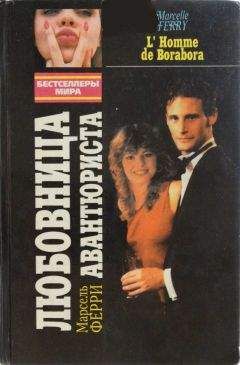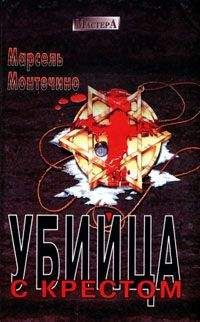Марсель Ферри - Любовница авантюриста. Дневная Красавица. Сказочные облака
Остаток дня она провела у постели больного. Он был по-прежнему неподвижен. Иногда Северина, охваченная испугом, склонялась над ним, слушала его сердце. Оно тихо билось. Тогда она успокаивалась и запрещала себе думать о странном бездействии его мышц.
Когда начало смеркаться, профессор Анри пришел сменить повязку и осмотреть рану. Северина невольно подняла глаза на это темное отверстие. Через него вытекала самая дорогая для нее кровь и, может быть, что-то еще более драгоценное. Она видела оружие, которое проделало эту дыру. Раздеваясь, Марсель всегда клал под подушку револьвер и нож с бежевой роговой ручкой. Северина держала его в руках, поглаживая стопор.
У нее застучали зубы.
— Лучше будет, если вы пойдете домой и попытаетесь уснуть, — сказал профессор. — За Серизи будет хороший уход, я гарантирую. А вам… вам понадобятся силы завтра. Завтрашний день многое решит… Речь здесь идет не о жизни, но… В общем, посмотрим. Идите отдохните.
Она повиновалась с каким-то тайным удовлетворением. Однако домой не пошла. У нее возникло глухое, неодолимое желание, которого она испугалась лишь в тот момент, когда назвала шоферу адрес Юссона. Некий закон мощного тяготения нес ее к этому человеку, с которого все началось, которым, казалось, все должно было и кончиться, к единственному человеку, который знал о ней все.
Едва Северина увидела Юссона, как тут же поняла, что тот ждал ее прихода.
— Я знал, — отсутствующим голосом произнес он.
Он провел ее в гостиную, полную роскоши и покоя. Хотя лето было в самом разгаре, в камине полыхали дрова.
Юссон сел напротив огня, опустил вниз длинные кисти рук.
— Ничего нового, так ведь? — спросил он таким же отрешенным голосом. — Я только что звонил в больницу. Там сейчас определяется цена моего спасения.
Северина молчала, но у нее уже возникло и постепенно начало усиливаться необычное ощущение внутреннего благополучия. Юссон был сейчас единственным человеком, общество которого она могла выносить, и он произносил те единственные слова, которые она была способна воспринимать.
Юссон смотрел то на огонь, то на свои руки, которые постоянно подносил к огню. Такое было ощущение, что он хочет их там расплавить. Он продолжал:
— Когда он упал, у меня тут же появилась уверенность, что он не умрет. В воздухе витало нечто худшее.
Он с трудом поднял глаза на Северину и спросил:
— Вы были настолько уверены, что я расскажу?
Молодая женщина ответила лишь легким взмахом ресниц.
— Как вы его любили, — немного помолчав, сказал Юссон. — Человеку вроде меня такое неведомо… И я допустил эту ошибку. Я не предполагал, на что может толкнуть подобное чувство…
Северина внимательным взглядом выразила согласие. «Ему не дано было понять того, что было во мне хорошего, — подумала она. — А Пьеру не дано было понять плохого… Если бы он догадался, то, может быть, удержал бы меня или стал бы лечить. Но, если бы он догадался, он не был бы Пьером».
— А тот, с ножом, — сказал внезапно Юссон, — тоже ведь какая страсть.
Он вздрогнул, придвинулся еще ближе к огню. Его голова дрожала от печали, по силе своей превосходившей печаль всех действующих лиц этой драмы.
— И только у меня одного, — прошептал он, — не оказалось никакой благородной причины. Вы все трое смертельно ранены, а я ускользнул. Почему? Во имя чего? Ради того, чтобы иметь возможность возобновить свои маленькие опыты?
Он слабо усмехнулся и задумчиво продолжал:
— Как хорошо нам сегодня вдвоем. На всей земле никто — даже самые алчущие любовники — не испытывают в этот вечер такой потребности друг в друге, как мы с вами.
— Скажите, — спросила Северина, — когда вы увидели Марселя, вы сразу поняли, что это я послала его?
Юссон мягко поправил:
— Послали мы.
Потом он погрузился в состояние беспредметной мечтательности. Прервал его мысли шум ровного дыхания. Северина уснула на диване, на котором сидела.
«Скольких бессонниц, скольких мучений стоит ей этот сон, — подумал Юссон. — А завтра…»
Он вспомнил об опасениях профессора Анри, о расследовании, которое начнется. Каким образом эта несчастная с лицом сломленного ребенка сумеет сохранить крохи еще оставшегося у нее в голове здравомыслия?
Он, конечно, поможет, но только от чего он может ее уберечь?
Юссон подошел к Северине. Во сне она выглядела такой чистой, такой невинной. Неужели эта та самая женщина, которую он видел распростертой на красном покрывале там, куда сам же и направил ее однажды солнечным утром? Да и сам он, разве в это мгновение он был тем же человеком, который на жалкую мольбу Дневной Красавицы ответил безнравственным уклончивым жестом, тем жестом, который, по сути, и проделал позже дыру в виске Пьера? Его собственная тайна, в которую он столько раз вглядывался с неуемной и тщетной алчностью, покоилась на целомудренном лице Северины.
Он нежно коснулся ее волос, сходил за одеялом, выбрал самое мягкое и тихо накрыл ее.
Северина проспала до девяти часов утра. Проснулась она с ощущением, что ее физические силы восстановлены. Однако вскоре она пожалела об этом отдыхе. Он обострил ее переживания, усилил тревогу о здоровье Пьера. Все, что привело ее к Юссону, показалось ей жалким и ничтожным. То была слабость, невроз. Воспоминания об их беседе, вчера казавшейся такой содержательной, теперь заставили ее устыдиться.
Вошел Юссон. Он испытывал такую же неловкость. Он тоже смог поспать. Тени исчезли. Жизнь сделала еще один шаг. И от этого его глазам предстала совершенно иная картина. Поступки и слова, продиктованные созерцанием глобальных зловещих законов, капитальные поступки и слова превратились в докучливых свидетелей уже не соответствующей им чувствительности.
— Я позвонил в больницу, — сказал он. — Его жизнь вне опасности, он даже пришел в себя, но…
Северина больше не слушала. К Пьеру вернулось сознание, а ее не было рядом, чтобы встретить этот первый проблеск. Как он, наверное, ждет ее!
Она всю дорогу только и думала о том, как улыбнется Пьер, когда увидит ее, как он потянется к ней; конечно, жест его будет слабым, почти незаметным, но она поймет его, мысленно его продолжит и закончит за него. Измотавшая ее гонка приближается к концу. Он выздоровеет, она заберет его с собой. И снова будут дни в тени больших деревьев, игры на пляжах, песни горцев над гладкими снегами. Он улыбнется ей, слегка протянув к ней руки.
Глаза у Пьера были раскрыты, но он не узнал Северину. По крайней мере, так ей показалось. Как же еще можно было объяснить отсутствие не только какого-либо жеста, но и какого-либо выражения, той тончайшей вибрации, которая при приближении милого существа начинает волновать даже совсем безжизненную, умирающую плоть. Пьер не узнавал ее, и для Северины это было ужасным ударом. И все же менее ужасным, чем тот, который обрушился на нее всего несколькими секундами позже. Она склонилась над Пьером и на самом дне его глаз заметила мерцание, дрожащий огонек — призыв и бесконечную мольбу. Так он мог обращаться только к ней, но если он ее узнал, то почему это страшное молчание, эта окоченелость?
Северина откинулась назад, посмотрела на сестру, на практиканта. Те опустили глаза.
— Пьер, Пьер, маленький мой, — закричала, скорее завыла она, — хоть одно слово, один вздох, я тебя…
— Успокойтесь, я вас умоляю, успокойтесь, ради него, — с трудом прошептал практикант. — Я думаю, он слышит.
— Но что с ним такое? — простонала Северина. — Нет, не говорите ничего.
Что могут знать эти люди, даже самые ученые? Она, только она, которая знает каждую извилинку этого лица, сможет разгадать его ужасную тайну. Подавляя страх, Северина вернулась к постели, обхватила голову мужа, притянула к себе. Но руки, утратившие вдруг силу, опять положили ее — на подушку. Ничто не дрогнуло в этих чертах, таких же вялых, как и накануне.
Ее привел в чувство взгляд Пьера. Эти светлые глаза, которые она видела смеющимися или серьезными, задумчивыми или влюбленными, были живыми. Чего же тогда она боится? Он просто слишком слаб, чтобы шевелиться, чтобы разговаривать.
— Любимый, ты поправишься, — сказала она. — Твои друзья тебе ведь объяснили это, и твой патрон тоже.
Она остановилась и спросила с тревогой в голосе:
— Ты меня слышишь, Пьер? Подай знак, чтобы я знала… маленький знак.
От нечеловеческого усилия глаза больного потемнели, но лицо не дрогнуло. И Северина начала догадываться, что означали недомолвки врача.
Северина долго оставалась склоненной над этими глазами, единственным средством общения глубокого и нежного ума. Чтобы не разрыдаться, она вышла.
В коридоре вышедший с ней практикант сказал:
— Не нужно отчаиваться, мадам. Только время покажет, насколько это необратимо.
— Но скажите же мне, что он не останется таким, как сейчас. Это невозможно. Это хуже…