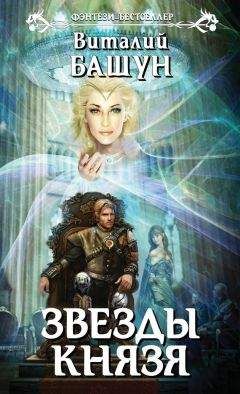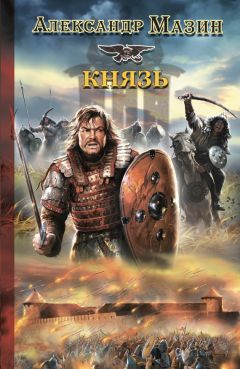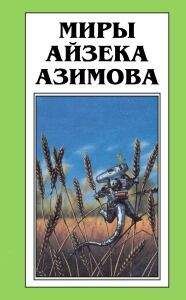Антон Дубинин - За две монетки
Но Марко не успел додумать эту мысль, как, впрочем, и предыдущую. Николай уже оторвал руку от кнопки звонка, и железная дверь раскрылась вовнутрь. Свет вырвался из нее пучком, сразу охватив каменный квадратный дворик, обрамленный мусорными баками, заводского типа ворота справа, за ними — нечто вроде мертвого предприятия с трубами, мутно блестящий водосток: двор выступил во всем уродстве и сразу по контрасту погрузился в полную тьму. В желтом проеме стоял мужчина, которого Марко явственно никогда не видел — но притом точно видел где-то совсем недавно. Скорее высокий, ростом с Гильермо, но несколько коренастый, с засученными до локтя рукавами.
— Привел?
— Я привел… священника.
Николай посторонился, стоя к гостям в полоборота; ничего страннее его улыбки Марко никогда не видел.
Гильермо уже вышагнул из темноты на свет и сказал по-английски — с тем редким уверенным достоинством, какое в близком присутствии смерти сохраняют только священник и врач. С достоинством полной необходимости и знания, что его нахождение здесь в самом деле уместно.
— Я священник. Пропустите меня к умирающему.
Прежде чем шагнуть за порог, Марко обернулся на Николая (Коленька, Виктория называла его — Коленька), желая его не то подбодрить, не то пропустить вперед — и увидел ту же улыбку на его лице, бывшую совсем не улыбкой, а — он понял наконец — сдерживаемым всю дорогу желанием закричать. Сердце Марко гулко ухнуло, проваливаясь в желудок.
— А ты тут подожди — тут, недоделок. Мы быстро.
Дверь чмокнула сталью у братьев за спиной, отрезая их от Николая, и младший из двоих невольно вздрогнул, хлебнув влажного, какого-то затхлого воздуха с запахом плесени.
(Котельная, вот что это такое — котельная, резко, как фотовспышкой, понял Марко еще раньше, чем шагнул на вторую из пяти ступенек в ласковом тепловом гуле откуда-то из глубины — и это разом все объясняло, даже больше, чем непонятное слово в адрес Коли — но что именно оно объясняло, Марко совершенно не понимал.)
Он знал одно — сюда не надо было, ни за что не надо было заходить.
Он еще не вспомнил, где видел этого мужчину. Или не видел, а только… (слышал?)
Но уже на третьей ступеньке твердо знал, что -
— Гильермо! -
Что здесь совершенно точно нет никакой умирающей старушки.
Глава 12
Après sept années de guerre[26]
Так получилось, что Гильермо, считай, никогда не ходил к умирающим. Ничего удивительного: это частое занятие для больничных и военных капелланов да для приходских священников, особенно в сельских приходах. А для монашествующего преподавателя из большого монастыря — с чего бы, кто и позовет его слушать предсмертную исповедь? Кроме одного-единственного раза, который сейчас нахлынул остротой невозвратного, да так крепко, что Гильермо едва замечал, куда идет. Уже считая ступеньки вниз своими легкими ногами, он молча кричал себе, что это тут ни при чем, что вращению земли, так сильно ощутимому сегодня — ставшему заметным уже в пуговичном взгляде медвежонка Рикики… нет, лемура Шебурашки… и во «французском чувстве без названия», твердом знании, что в Вивьере ставни самые голубые — этому вращению неоткуда было взяться в московской квартире девушки Зинаиды, по уши очарованной им и совсем не похожей на давно усопшую девочку Мадлен из Тулузы — нет, вращение земли не могло привести его в ту же точку. Колесо фортуны поворачивается не так. Не бывает возможности все исправить.
Однако, сбегая по ступеням подвальной квартирки — или даже не квартирки, просто помещения — Гильермо Пальма почти не помнил, что Марко говорил об умирающей старой женщине. Женщине?… Сжав в нитку губы, чтобы не водить по ним языком, с сердцем твердым, как маленький камень, он отлично знал, что не сошел с ума, и нет ни малейшей причины в этом запахе — совершенно незабвенном запахе владений Сфортуны, запахе мочи, бедности и несвежего тела — увидеть на продавленном диване, да, непременно на диване в углу, за ширмой с псевдокитайскими журавлями — своего умирающего отца.
Был тот самый год — двадцать восьмой — когда Гильермо и не заметил своего дня рождения, растворившегося в череде великопостных и пасхальных драм. Кризис болезни Винченцо, его смерть, пришедшаяся на Вербное, так что он въезжал в Иерусалим через ворота братского кладбища, и Гильермо, которому по праву близости позволили в числе других нести до странного нетяжелый гроб, видел все сквозь поволоку отчаянной боли, носившей имя Никогда. Винченцо никогда не станет священником. Они никогда не подойдут вместе к алтарю. Не будет веселых тосканских каникул у моря, давно запланированных двумя лучшими друзьями. У Гильермо никогда больше не будет лучшего друга.
Он на удивление мало плакал в те дни, хотя слез от него ожидали, относясь к другу покойного с особой унизительной осторожностью, которая взбесила бы Гильермо, если бы он не ушел так глубоко в себя. Белой тенью он находился при матери Винченцо, при его сестрах, ошарашенных горем, как и он сам, и был счастлив, что они не просят его объяснять и оправдываться, как всякий живой оправдывается перед лицом смерти, рассказывать о покойном — за все те девять лет, которые Гильермо, а не они провели с ним рядом. Расплакался по-настоящему он только один раз — на заупокойной службе, когда проповедовал сам брат Фернандес, генеральный магистр, тот же, что принимал у двоих друзей вечные обеты.
— Я помню день почти четыре года назад, когда у этого же самого алтаря шестеро братьев обещали жить в послушании Богу, Деве Марии, святому Доминику и его преемнику, — испанский акцент четче очерчивал слова, делал голос Магистра торжественным. — По крайней мере об одном из этих шести братьев уже можно сказать, что он свои обеты исполнил. Перед всем народом Его. Я помню каждого из шестерых, которые в тот день вкладывали ладони мне в руки; и могу сказать с уверенностью, что этот брат был единственным, чьи руки не дрожали.[27]
Гильермо вздрогнул от неожиданности, когда в сжатый кулак ему ткнулось что-то мягкое, отвратительное; это еще один из «тех шестерых» — Франко, стоявший справа, — решил выручить его носовым платком: только тогда Гильермо понял, насколько открыто и яростно рыдает.
Потом была Пасха — ответом на все, огромным костром благодатного пламени, пронизывающим звоном «Глории», сброшенным с плеч черным плащом Поста, когда слезы не мешают петь; подготовка к рукоположению поглотила его с его горем, придавая и самому горю смысл. Он вдвойне должен был стать священником — за себя и за брата, он не думал ни о чем другом, бесконечно тренируясь в часовне перед первой мессой в первом году литургической реформы — так, поклон диакону, омовение рук, добавление в воду вина… Здесь три взмаха кадилом. Здесь — чашу на алтарь, преклонить колени. Жизнь вошла в русло, русло сузилось неимоверно, и потому вода неслась к устью с великой скоростью. Гильермо не писал матери, наверное, с месяц — после короткого уведомления о назначенных дате и месте рукоположения, и мать тогда же звонила ему (и не дозвонилась), и брат, дежуривший на проходной, передал от нее записку — полное острой любви заверение, что она непременно придет, обещание молитвы, а что еще скажешь. Общение матери и сына, по Божьей воле опять оказавшихся жителями одного города, было в те годы странным и обрывочным. Она несколько раз заглядывала к нему в Анджеликум, страшно стесняясь, соглашалась пройти в столовую и выпить оставшегося после завтрака кофе. Она же звонила ему в монастырь, на проходную, из городских автоматов — в доме в предместье еще не поставили телефона, да и вряд ли собирались это сделать в ближайшие годы. Он посылал ей письма и открытки на адрес соседки, единственной ее приятельницы в Риме — наверное, потому, что та тоже была француженкой. Зайти он не находил ни времени, ни возможности — из-за никогда не обговариваемого, но всегда имевшегося в виду присутствия на заднем плане коренастой фигуры Рикардо Пальмы, человека, при котором даже мама не говорила более о блудном сыне: не было у Рикардо сына, так получилось, бывает же, что нет у человека детей.
Но как же Гильермо ждал ее в день своего торжества, как выглядывал в толпе гостей до последнего, пока еще не началось — и уже после начала, двигаясь с процессией меж рядов Санта-Сабины, слегка косил по сторонам почти черными от множества эмоций глазами: не высветится ли знакомое личико сердечком, яркая улыбка, такой же, как у него, взгляд. Не разглядел нигде, приказал себе на время забыть — а потом уже и вовсе стало не до того, не навертишься головой, простершись на камнях пола — вторым слева из пяти рукополагаемых. Но даже когда головы его коснулись руки епископа, его внутренний крик торжества — мама, ты меня видишь? — звенел, резонируя в груди. А вот неопресвитер отец Гильермо-Бенедетто, поднимаясь по ступеням алтаря, уже не видел ничего, кроме тайны.