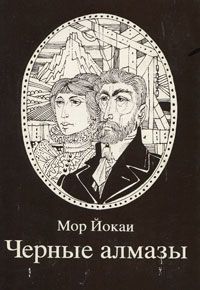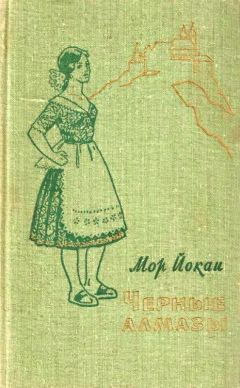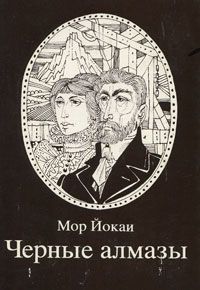Николай Семченко - Что движет солнце и светила (сборник)
— Охо-хонюшьки, — бабка Полина вздохнула и грустно посмотрела на Любу. — На каждый роток не накинешь платок. Не за одно, так за другое осудят и ославят. Думаешь, не шушукаются у тебя за спиной, не злорадствуют? Связалась, дескать, с тюремщиком…
— Пусть лясы точат. Мне всё равно.
— Всё равно, да не ровно, — бабка снова вздохнула. — Постарше станешь и поймёшь, что кости да плоть у всех одинаковые, но одни стараются жить наособицу, по-своему, а другие — так же, как все: одинаково, и чтоб, не дай Бог, пальцем не показывали. Не так ли и у тебя случилось, а?
— Не знаю. Я сама не своя. Будто кто-то сглазил…
— Сглаз ложится на слабую душу, — заметила бабка. — Укреплять её нужно, милая. Но вы нынче бежите сломя голову, некогда вам ни остановиться, ни подумать, ни оглянуться. Сначала сделаете — потом спохватитесь. Эх, жизнь-торопыга!
— Да что ж мне делать-то, бабушка?
— Не знаю, — сказала бабка. — Травок я тебе дам, но они не вылечат душу. Суседка-то неспроста тебе показывается. Она о чём-то важном хочет напомнить…
— О чём, бабушка?
— Может, о том, что жизнь — не торжище? Не всё на ней продаётся и покупается, не всё меняется и взаймы не даётся, а если даётся, то по особому счёту…
— Ваши загадки, бабушка, не для моей головы, — растерялась Люба. — Мне бы узнать, как суседку утихомирить…
— Ничего ты не поняла, девонька, — ответила бабка. — Может, это счастье, что у тебя есть суседка. Она о твоей душе беспокоится. Что-то ты не так делаешь. Вот об этом и подумай… А травок я тебе дам. Вот этот пучок возьми, и этот вот… А если суседка спать не будет давать, то этой водичкой на пол брызнешь — и всё пройдёт, — бабка протянула крохотный пузырёк тёмного стекла. — Только смотри, милая, не обидь свою суседку. Она тебе что-то важное вещует. Постарайся её расслышать…
Крохотная бабкина изба, состоящая из комнаты да кухни, вся была увешана пучками сухих трав и связками каких-то корневищ; шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на банку или кастрюлю с сушеными ягодами, ломкими и пахучими корзинками календулы, васильков и бессмертников. Густо и резко пахло пихтой и дёгтем. От этого терпкого, острого запаха, смешанного с весёлым ароматом летних лугов, с непривычки кружилась голова и хотелось поскорей вдохнуть свежего, морозного воздуха. Что Люба и сделала, с удовольствием зажмурившись от яркого солнца и ослепительной белизны ноздреватого снега.
Прибежав домой, она с неудовольствием поглядела на Валечку, которая по своему обыкновению валялась на диване перед телевизором. На мать она не обратила никакого внимания. Может быть, ещё и по той причине, что была в наушниках: Володя откуда-то принёс плеер, которым Валечка тотчас завладела. Она могла часами слушать музыку, листать свою любимую книгу «Мадам» и равнодушно наблюдать за сменой картинок на телеэкране.
— Хоть бы матери помогла, — сказала Люба. — Я кручусь, как белка в колесе, а ты день-деньской бока отлёживаешь.
Валечка не отвечала.
— Отдыхать не устала?! — крикнула Люба.
Валечка очнулась, сняла наушники:
— Что говоришь?
— Говорю: бездельница! — рассердилась Люба. — Могла бы пойти на рынок, час-другой аджикой поторговать. Или боишься задницу заморозить
— Ещё чего! — огрызнулась Валечка. — Я не торгашка какая-нибудь…
— А я, значит, торгашка? — возмутилась Люба. — Своё продаю, не краденое! И тебя на те деньги кормлю. Кушаешь и не давишься!
— Ой, объела тебя, бедную, — скривилась Валечка. — Я не просила, чтоб ты меня рожала. А родила, так корми…
Переругиваясь с дочкой, Люба собрала в корзинку баночки с аджикой. Так в посёлке называли густое пюре из красных горьких перцев, помидоров и чеснока. Настоящую грузинскую аджику эта смесь напоминала разве что своей горечью, за что получила ещё одно, более точное название: «Вырви глаз». Любина аджика, между прочим, пользовалась даже своего рода известностью: глаза на лоб от неё не лезли — в меру острая, она была приправлена зеленью кинзы и любистка, корнем петрушки и небольшим количеством хрена. Это был секрет, которым Люба ни с кем не делилась. И правильно делала, иначе та же Иснючка, перехватив инициативу, быстренько бы составила ей конкуренцию.
Торгующих на рынке было немного, а покупателей — ещё меньше. Люба встала рядышком с Иснючкой, которая тут же сообщила новость:
— Тут Цыган с утра колобродил…Может, ты это и сама знаешь?
— Я в его дела не вмешиваюсь, — ответила Люба. — Мало ли что люди о нас болтают…Он… это… ну, в общем, иногда заглядывает… просто так.
Иснючка, однако, со значением кашлянула и, глядя в сторону, как будто увидела там что-то ужасно интересное, шаловливо пропела:
— Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу…
— Что это ты вдруг Эдиту Пьеху вспомнила? — не поняла Люба. — Она эту песню чёрте когда пела.
— Любочка, — Иснючка нагнулась к Любиному уху и горячо задышала в него, — ты во мне не сомневайся, милая. Разве я когда-нибудь разносила сплетни по посёлку как сорока-трещётка? Ну, что ты от меня скрываешь то, что все уже знают?
— А пусть треплют, что хотят! — Люба не сдавала своих позиций. — Ты вроде начала говорить о Цыгане… Что он тут учудил?
— Ашота прижал, — зашептала Иснючка. — Ашот ему на днях ананас дал. Просто так дал, от всей души: порадовался человек, что другого человека из тюрьмы выпустили. А сегодня Цыган как раскричится: ты, чёрнозадый, впился, мол, русским в глотку как клещ, кровопийца проклятый! Ананас гнилым оказался, чтоб ты сам им подавился…
— Да нет, не гнилой, — машинально сказала Люба, но тут же и поправилась:-Ашот старается, следит, чтобы его товар всегда был свежим.
— Этого у него не отнимешь, — согласно кивнула Иснючка. — Другое дело, что малость обвешивает. Чего бы я у него ни купила, принесу домой, прикину на безмене: обязательно граммов пятьдесят не хватает!
— Это ещё по-божески, — вздохнула Люба. — Вот в Хабаровске на рынке лютуют, ого-го! С килограмма граммов триста навару, ей-богу, не вру!
— Так вот, — продолжила своё шептание Иснючка, — Цыган пообещал Ашоту: твой киоск, мол, красный петух схавает, если не будешь себя по-людски вести.
— Что-то я ничего не поняла, — призналась Люба. — Пообещал поджечь его, что ли?
— Ну да! — Иснючка даже валенком притопнула. — Какая ты непонятливая! Короче, Цыган заставляет Ашота становиться к нему под «крышу», тогда будет, мол, в целости и сохранности…
— Да точно ли ты поняла? — спросила Люба. — Неужели Цыган задумал рэкетом заняться? Ведь снова на зону попадёт…
— А пойди сама у Ашота спроси, — подмигнула Иснючка. — Он вроде в зятья к тебе набивается, так что по-родственному и поболтаете…
— Кто? Ашот — в зятья? — Люба даже растерялась. Это сообщение было для неё ударом грома среди ясного неба. — Ты хочешь сказать, что Валечка с ним дружит?
— Ну, не знаю, дружит или что, — уклонилась от ответа Иснючка, — а поговаривают, что Ашот свою Машку бросать хочет. С твоей дочкой люди его видели…
Ашот жил с дебелой, рыжеволосой Машкой Авхачёвой. Что уж его в ней привлекло — непонятно. Местные кумушки, впрочем, язвительно хихикали: грузины да армяне, мол, любят, чтобы зад у бабы был широким как матрац. Авхачёвская дочка этому условию отвечала вполне, и даже с избытком.
То, что Иснючка сообщила об Ашоте и Валечке, для Любы было полной неожиданностью. Ох, ну и сучонка выросла, кто бы мог подумать: такая была славная девчушка, от всех трудностей её берегли, жалели, только учись, дочка — и вот что получилось. Но как бы Люба ни обижалась, ни осуждала Валечку — всё это оставалось в её душе. Перед чужими людьми она всегда представала любящей матерью и, конечно, не давала дочку в обиду.
— А что, кто-то свечку над моей дочкой держал? — огрызнулась Люба. Молодую девку всякий охаять может. С кем-то пройдёт, кому-то слово скажет или на дискотеке потанцует, а люди уже: шу-шу-шу, такая-разэдакая!
— Что слышала, то и говорю, ни капли не прибавила, — Иснючка упорно держалась своего. — Мой тебе совет: сама понаблюдай за дочкой. Может, что-нибудь и заметишь…
— Ладно, это наше семейное дело, — отрезала Люба и гордо выпрямила голову. — В советах не нуждаюсь!
К Иснючке подошёл очередной покупатель: жареные семечки в посёлке пользовались неизменным спросом. Как, впрочем, и Любина аджика. Но сегодня её брали что-то неохотно. Наверное, Даша-курятница забывала нахваливать покупателям рецепт окорочков, приготовленных в соусе из Любиной аджики. А может, к «ножкам Буша» никто и близко не подходил, чтобы лишний раз не расстраиваться? Как-никак, американская курятина подорожала в три раза! А вслед за ней окрепли в цене и местные бройлеры, будто не с родимых полей зерно клевали, а поглощали пачки долларов, да ещё доставлялись к прилавкам не иначе как в вагонах СВ — ничем другим Люба не могла объяснить стремительный взлёт худосочных «синих птиц» на высоту, не досягаемую для покупателя средней руки.