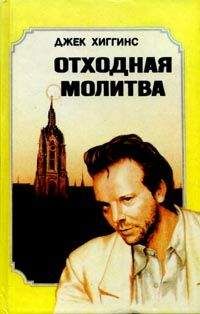Анник Жей - Дьявол в сердце
Элка нашла розовые гортензии у подножия креста. Хороший знак. Вейсс склонил голову. Он сложил руки и молчал. Может быть, он молился за них? Просил об исполнении желания? Почему он не обнимет ее? Боится шокировать Бога? Очи Черные и не такое видали… Жаль, что их не было. Вейссу не нужно было видеть, чтобы верить, а ей это было необходимо.
Держа руки под подбородком, Вейсс читал «Отче Наш». Она хотела бы, чтобы он отслужил мессу для них. Мессу их первого вечера, памятную службу любви, о которой мечтают верующие и неверующие, торжественное богослужение, которое увлекает и тех, у кого есть вера, и тех, у кого ее нет. Главную мессу страсти, которую мог отслужить один только Вейсс, пребывавший и вовне, и внутри, бывший и серой, и ладаном. Красавец Господа поднял бы спасительную чашу; алхимия между ними и Господом была бы совершенной: «Мы вечны», — заключил бы Вейсс. Потом они преломили бы хлеб любовников и разлили бы ливанское вино. Бах разделил бы праздник. Толпы маленьких лисят прятались бы за колоннами.
— Элка? Вы идете?
Люк улыбался ей с видом Арлекина. Особая тишина, плотная, как китайский шелк, позволяла слышать его дыхание. Священник направился к левой от алтаря двери. Элка шла по пятам. Проходя мимо колонны она увидела плакат «Разбитые сердца». Зеленое и белое, священное знамя вздымало свои цвета. Благая весть была объявлена. Элке хотелось остановиться, чтобы поблагодарить Господа, но Вейсс, казалось, торопился.
При свете неверного пламени они дошли до середины здания. Ризница была темной, огромной, с высоким потолком.
— Осторожно! — сказал Вейсс и взял ее за руку, когда она наткнулась на что-то.
Посетительница наклонилась, чтобы осмотреть препятствие. Она сделала один шаг вперед, два назад, наталкиваясь на какие-то предметы. В какой заброшенный сарай их занесло? Вейсс зажег одну свечу, потом вторую, потом третью, словно фокусник, довольный производимым эффектом. Элка поняла. Все люстры церкви лежали в ряд у их ног, ожидая гипотетического ремонта. Каждый светильник был оснащен четырьмя рядами стеклянных тюльпанов, десятью коронами из кованого железа, пятью дубовыми фризами, семью стальными косичками, на которых она увидела крылатого быка. Прекрасные свидетели былых столетий, большие светоносные корабли прошли через века и пережили все войны, революции и восстания. Перед их древним великолепием наука умолкала. Тезисы и антитезы теряли свой смысл. Элка поняла, почему клирос был таким черным и почему Бог блистал отсутствием.
— Жалко, — вздохнула она.
— Трудно, — признал Вейсс. — Правоверным нечему радоваться. Церкви нужна молодежь.
Священник казался озабоченным. Надо срочно начинать стройку. Надо все отреставрировать, модернизировать, не меняя сути. Традиция, обновление: эта песня более чем знакома Ремеслам Франции. Чего же они ждут?
— Так надо делать, — сказала Элка.
— Что вы в этом понимаете?
— Я все знаю.
— Тогда в нынешних условиях вы можете мне сказать, где находится то, что я ищу?
Они засмеялись. Ладонь Элки прикоснулась к вековому камню.
— Хоть пыль эта историческая и священная, она мне кажется признаком обветшалости и грязи, — заметила посетительница.
Вейсс осматривал апсиду при свете свечи. Сквозь золото и перламутр витраж ризницы просвечивал рождением света. Это было красиво, и священник гордо выпрямился: он видел все глазами Элки. Темные сундуки, барельефы, скульптуры и витражи исчезали в ночи. Поддерживаемые каменными птицами карнизы казались разбитыми. Фигура Святой Девы Обета, утешающей скорбящих в своей столетней нише, была достойна полного освещения. Консоли, птицы и капители были укрыты полукруглым сводом, на котором скопилась грязь. Паутина посверкивала в лунном свете.
— Вечерний паук — надежда, — сказала Элка, чтобы утешить своего проводника.
Они услышали шум крыльев, воркованье. «Голуби свили гнездо под окном», — уточнил Вейсс. «Это вносит некоторое оживление», — обрадовалась Элка, рассматривая развешенные стихари и ризы. «Разум — самая скорая птица, ты летишь быстро, Ангел мой», — пробормотала она, вспоминая продолжение псалма. Она погладила лиловую епитрахиль.
— Почему женщины не могут быть священниками, если вам людей не хватает?
Люк не ответил. На письменном столе из темного красного дерева Элка листала требники, приподняла потир. Где же ливанское вино? Она обернулась. Помещение было так заставлено, что она споткнулась. Обломки прошедших эпох, люстры казались мечтами, мечтавшими улететь. Кто видел их минувший блеск?
— Когда вы соборуете умирающего, о чем вы думаете?
— Что Бог попрал смерть.
— Вам не страшно?
— Я такой же человек, как и все.
Вейсс выстроил свечи на сундуке. Она вдохнула ладан, который он жег для нее. Он открыл черную поминальную книгу. Она рассматривала ее, пока он искал письмо, переворачивая страницы.
— Меня окрестили в день святого Люка, восемнадцатого октября. Странно, правда?
— Когда веришь в Бога, нет ничего странного. Или все странно, что то же самое.
Подняв голову, Люк, как будто по ошибке, вонзил кинжал в глаза Элки. У металла был золотой отблеск. Ни один взгляд не мог бы ее так взволновать. Она вспыхнула, он погрузился в свой реестр. Она увидела, как блеснул крест на черном свитере. Если ангелочек думал обмануть плоть, используя такие хитрости, он ошибался. Их обмены взглядами происходили самым развратным способом. Зрачки переплетались, расширялись, это было зрелище не для слабонервных и несовершеннолетних.
— Вот письмо, которое я искал!
Вейсс открыл конверт и положил записку в карман. Он захлопнул крестильную книгу так резко, что между ними поднялось облачко пыли.
— Если бы я воспитывалась в гареме, я никогда не решилась бы… ну… Вы понимаете?
— Да.
Она повернулась к нему спиной, обходя люстры, считая их для забавы. Ей пришлось бросить это бесцельное занятие. «Господин аббат? Вы знаете, сколько у нас пленников?» — крикнула она, глядя на запрестольную часть алтаря, контуры которой она смогла различить. Эхо усилило дрожь ее голоса. Так как она никого уже не слышала и ничего не видела, она обернулась. Люк Вейсс шел за ней на таком близком расстоянии, что она толкнула его. Священник попытался сохранить равновесие. Он протянул руки. Она схватила его. Они медленно, очень медленно упали на черно-белый шашечный пол.
Тысячи часов, которые она провела, представляя себе эту секунду, миллиарды секунд, которые она думала об этом часе, обрушились вместе с ними. Лежа на спине, каждый чувствовал холод камня и жар соседа.
— Я так устала, — прошептала Элка.
— Это ты? — сказал он, и его могучая широкая ладонь провела по каждой выпуклости ее лица.
Люстры занимали столько места, что они съежились, чтобы уместиться среди них. Надгробная статуя вдруг снова почувствовала вкус к жизни. Она повернулась, придав своей позе такую естественность, что сам Бог не смог бы ее упрекнуть. Взобравшись на Эверест черного торса, она увидела крест, блестящий на шотландской шерсти, в двух сантиметрах от сердца Вейсса.
Первый раз в своей жизни Элка вдыхала запах священника, касалась его кожи, чувствовала тяжесть мускулов и его мужской плоти. Удачный случай не повторится. Одно слово, лишний жест, и они восстановят вертикальное положение взрослых людей. Люк Вейсс не двигался. Она положила голову ему на грудь. Что может быть естественней. Однако то, что он на это согласился, было чудом. Дотрагивался ли он когда-нибудь до женщины? Сердце билось сильными мерными ударами. Люк вздохнул, потом его рот отправился в полет, коснувшись сначала ее лба. Тело бабочки было в золотых пятнышках, синий кобальт покрывал усики. Люк освободил черные крылья, которые бились на веках Элки. Он клевал щеки, нос, подбородок лежащей так, что она могла догадаться о месте следующего прикосновения и радоваться, наслаждаясь мгновением. Кожа священника стала ее кожей, атлас и шелк ласкали друг друга.
Люк порхал (в благородном смысле слова), чуть касаясь ее шеи, ее плеч; она, изумленная, закрыла глаза. После долгих лет пребывания в могиле, наслаждение стало отвлеченной идеей, забытым воспоминанием. И вот теперь, наполовину гепард, наполовину сфинкс, наслаждение выходило из гроба, чтобы развернуться. Оно поднималось, расправив крылья, и вся их жизнь была в нем. Элка улыбнулась. Люк целовал ее грудь туда, куда вешают награды и вонзают нож.
Элка разорвала кокон и вышла на свободу: волшебная стрекоза, не верящая своему счастью. Есть связь между действием и тайной, и жесты Люка призывали ее к этому двойному причастию. Они продолжали молиться, но по-другому. Рот Люка прижался к ее рту: ей показалось, что она умирает. Она вдохнула и выдохнула. Все хрустело и освобождалось в ней, все шло к нему. Она положила руку на его талию, на живот, опустила ее ниже. Он застонал. Люк был такой же мужчина, как и все, она убедилась в этом. Он был даже больше мужчина, чем многие, чему она порадовалась, как опытная женщина. Словно великаны, долго вынужденные пребывать в состоянии карликов, они освобождались при помощи друг друга, открывая свой истинный рост, свое тело из плоти и крови. Поза наслаждения настолько напрашивалась, что они ее почти боялись. С прерывистым дыханием, с распахнутыми глазами, со сведенными руками Люк казался водолазом, на долгие годы лишенным возможности погружения и вытолкнутым вверх.