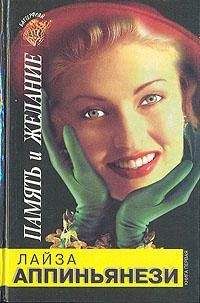Майкл Корда - Роковая женщина
Мысль об Артуре Баннермэне как о начинающем художнике показалась ей нелепой. Она попыталась представить его в джинсах, с бородой, но безуспешно. Затем до нее дошло, что он на несколько поколений отстоял от нынешних модных художников. Он смутно представлялся ей в гротескном образе одного из друзей Родольфо из оперы «Богема», но это, конечно, тоже было не то поколение. Алекса обнаружила, что ей трудно вообразить, как он выглядел юношей, и даже представить время, когда это было.
— А вы пытались? — спросила она.
— О да. В детстве у меня был учитель, француз, немного занимавшийся живописью. Он научил меня рисовать акварелью — пейзажи долины Гудзона и тому подобное. Я подарил одну отцу на Рождество, и на него это произвело глубокое впечатление. Когда я поступил в Гарвард, то решил заняться этим более серьезно — масло и холсты, живые модели, настоящая живопись. Ну, и когда отец прослышал об этом, то приказал немедленно забыть о живописи. Ни один из его сыновей не будет растрачивать время и рисковать нравственностью, рисуя голых женщин. Так я и сделал.
— Вы были несчастливы из-за этого?
— Ну, во времена моей юности люди так не беспокоились о счастье, как сейчас. Я понимал точку зрения отца. Баннермэн не мог быть художником, во всяком случае, тогда. Кроме того, у меня не было таланта. Я возвращался к живописи, когда был в Вашингтоне. Говорили, что это полезно для нервов. Иногда мы рисовали по выходным у Айка[17], в Кемп-Дэвиде. Он говорил, что живопись — это единственное, что, кроме гольфа, помогает ему расслабиться, но он всегда выходил из себя, когда его картины не соответствовали замыслу. «Черт побери, Артур, — повторял он, — если я мог спланировать высадку в Нормандии, какого дьявола я не могу добиться, чтоб эти проклятые деревья выглядели как надо?» — Он рассмеялся. — Теперь я коллекционер. Так проще, но далеко не столь забавно.
Подошел официант. Баннермэн сделал большой глоток скотча, словно его мучила жажда. Алекса подумала, — не этим ли объясняется цвет его лица. Пригляделась, не дрожат ли у него руки, но они казались сделанными из камня.
Он раскусил кубик льда и снова вперился в картины.
— Вот эта нравится мне больше всех, — сказал он наконец. — А вы что думаете?
— Ну, она гораздо больше других…
— Точно! Масштаб. Если уж делать что-то, так с крупным масштабом! Чем больше, тем лучше, как по-вашему?
— Конечно, это зависит от того, где вы собираетесь ее повесить.
— Нет-нет. Нельзя покупать произведения искусства, к чему-либо их примеряя, юная леди. Искусство и декоративность — совершенно разные вещи. Мой отец приобрел в Лондоне картины Бароччио — чертовски огромные декоративные полотна. Когда он обнаружил, что они не умещаются в столовой, то приказал нарастить потолки. Картины были важнее помещения. Конечно, этот парень не Бароччио, однако мне нравится эта, большая. Я, возможно, пошлю ее губернатору. Я убедил его поместить какие-нибудь произведения современного искусства в губернаторской резиденции в Олбани, чтоб немного оживить это проклятое здание. Не могу дождаться, чтоб увидеть лицо бедняги, когда перед ним предстанет это!
У Алексы мелькнула мысль, не является ли страсть Баннермэна к современному искусству своего рода розыгрышем крупного масштаба. Она знала, что это его недавнее увлечение — только в последние два года он проявил желание приобщиться к миру современного искусства. До этого его чековая книжка была всегда открыта, чтобы финансировать наиболее амбициозные приобретения Метрополитен-музея, где он был хорошо известен как один из самых требовательных и искушенных попечителей. Ходили даже сплетни (нашедшие отражение в прессе), что друзья и родственники Баннермэна рассматривают его интерес к современному искусству как признак сумасшествия или старческого слабоумия, хотя Алекса не замечала ничего, что могло бы это подтвердить.
— Сколько она стоит? — спросил он.
Она вынула из сумочки прайс-лист. Обычно продажей занимались Саймон или менеджер галереи, но по какой-то причине с Баннермэном она испытывала чувство собственницы.
— Пятьдесят тысяч долларов. — Ей это показалось целой кучей денег.
Очевидно, Баннермэну это тоже показалось целой кучей денег. Он в задумчивости отпил виски, вернулся к картине, постучал пальцами по ее поверхности и вздохнул.
— Тридцать пять тысяч устроили бы меня гораздо больше, — сказал он.
Алекса покачала головой. Она не имела права понижать цену. Она догадывалась, что Саймон, возможно, был бы рад получить и тридцать пять тысяч, если бы сам совершал продажу, но если бы это сделала она, он бы обвинил ее в том, что она лишила его пятнадцати тысяч. А если бы она сорвала сделку — тем более, с Артуром Баннермэном, он бы пришел в еще большую ярость. Она пожалела, что не позвала Саймона, решив оставить Баннермэна для себя.
— Боюсь, что цена картины — пятьдесят, мистер Баннермэн, — сказала она по возможности твердо. — Мистер Вольф получит несколько предложений относительно этой картины.
Она надеялась, что не покраснела. Лгать она не умела, хотя это была непременная часть процесса купли-продажи, а с Баннермэном это почему-то было еще труднее, чем с кем-либо другим.
Баннермэн нахмурился. На миг ее сердце заныло от испуга, что он перед всеми обвинит ее во лжи.
— Опять этот проклятый дурак Розенцвейг? — яростно прошептал он. — Он скупает все подряд для своего нового музея. Ну кто оценит подобную живопись в Форт-Уорте, я вас спрашиваю?
Она одарила его понимающей улыбкой наилучшего образца. Баннермэн уставился в потолок, засунув руки в карманы, как ее отец, готовясь начать торг за нескольких телок на сельскохозяйственном аукционе в Ла Гранже, разве что у Баннермэна в кармане ничего не звякало.
— Сорок, — бросил он сквозь стиснутые зубы.
— Ничего не могу поделать. — И это была чистая правда.
Он посмотрел на нее, и в какой-то момент она едва не сказала: «Ладно, сорок». Потом он улыбнулся.
— Вы заключили выгодную сделку, — сказал он с ноткой восхищения в голосе. — Я возьму ее за пятьдесят, но учтите, я требую десятипроцентную скидку.
— Вот как?
— Спросите у остальных. Рассказав, что картину купил я, вы получите гораздо больше этих десяти процентов.
— Верю вам на слово, мистер Баннермэн. Итак, сорок пять тысяч. Продано.
Баннермэн допил виски.
— Превосходно! С вами можно иметь дело. — Он твердо пожал ей руку, словно она была избирателем. — Вы ведь не из Нью-Йорка, правда, мисс… Уолден?
— Я из Иллинойса.
— А конкретно?
— Из графства Стефенсон.
— Я набрал в графстве Стефенсон сорок с чем-то процентов голосов на первичных выборах в 68 году. Там ведь главный город — Ла Гранж, верно?
— Откуда вы знаете?
— Политик никогда не забывает побед, даже малых. Кроме того, мой отец настаивал, что дети обязательно должны знать два предмета — географию и арифметику. Сам он, да будет вам известно, мысленно мог представить любой кусок земли, которой владел — и большую часть земли, принадлежавшей другим. Все это хранилось у него в памяти. Если кто-то, скажем, предлагал участок земли под индустриальный парк в Цинциннати, отец на миг закрывал глаза и говорил: «Нет, не думаю. Это низина, ее заливает каждый раз, когда Огайо выходит из берегов». Понимаете, отец за всю жизнь ни разу не был в Цинциннати, но он настолько хорошо знал страну, что никогда, черт возьми, не нуждался в карте. Моего отца во многом недооценивали!
Она уловила горечь в последних словах. Было ли это простое сожаление о том, что способности отца не встретили должной оценки? Или Артур Баннермэн тоже чувствовал, что недооценен, что он так и не исполнил своего предназначения, а все это произошло потому, что он родился таким богатым?
Она не знала, каким образом развить в разговоре подобную тему, хотя ей бы этого очень хотелось. Взамен она спросила, чтобы уйти со скользкой почвы:
— А как вы догадались, что я не из Нью-Йорка?
— Ну, начать с того, что вы говорите не как уроженка Нью-Йорка. И любой нью-йоркец продал бы мне эту проклятую картину за сорок тысяч просто потому, что я — Баннермэн. Это манера янки — жестоко торговаться с другими янки.
У нее чуть было не сорвалось с языка, что она вовсе не янки — она швейцарского происхождения со стороны отца и англо-шотландского со стороны матери, уроженки маленького южного города, но она не хотела углубляться в генеалогию перед Артуром Баннермэном, и к тому же догадывалась, что это был просто тактичный предлог включить ее в число своих собратьев — белых протестантов.
— Чем занимается ваш отец? — спросил он. — Он молочный фермер?
— Он умер, — сказала Алекса. — Несколько лет назад, — поспешно добавила она, чтобы предупредить соболезнования. — Однако он был молочным фермером. А как вы узнали?