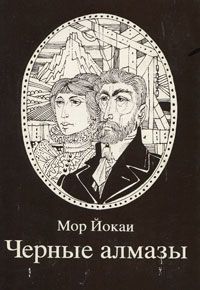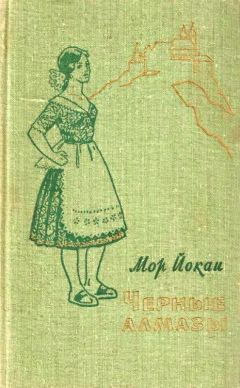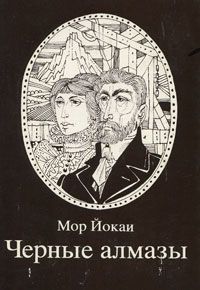Николай Семченко - Что движет солнце и светила (сборник)
Бочонок открыла глаза, глянула на Фанни, которая весело скалилась и подмигивала, повернулась на другой бок и снова задремала. Она не поняла, отчего подруга вдруг взвизгнула и заголосила: «Вставай, дура набитая, нас обчистили! Ой-ей-ей! А я-то думала: кувыркалась как попало! Нет, ты погляди, она дрыхнет! Вставай!»
Что обчистили? Почему Фанни вдруг побежала в свою комнату, заголосила пуще прежнего? Бочонок потянулась, сердито, спросила:
— Сбрендила, что ли? Дозу перебрала?
Фаина яростно заверещала:
— Ты кого пригрела, сука? Ворюгу! Он и меня разорил, о-о-о! Вся моя рыжуха — и кольца, и серьги, и браслет — пропали! И деньги, а-а-а!
Тут Бочонок и проснулась. Вскочила, оглянулась, точно: ящики комода выдвинуты, шкафы нараспашку, вещи валяются на поду, любимое голубое платье распласталось на кресле. Ай! Она кинулась к подоконнику, схватила горшок с уродливым колючим растением.
Его редкие ядовито-зеленые листья равнодушно трепыхнулись и обдали лицо пряным запахом имбиря. В подставке под горшком было устроено второе дно, о чем даже Фанни не знала. Бочонок сдвинула пластмассовый кружок и облегченно вздохнула: деньги целы. Зато шкатулка, растопыренная на крышке комода, наверняка пуста, ну и черт с ними, теми ста рублями, что отложила на книгу Дюма «Три мушкетера» — кино смотрела, а книгу никогда не читала, так хотелось почитать. И на брошь наплевать, пусть подавится; сволочь!
Бочонок разозлилась и пнула ни в чем не повинное кресло, на котором этот человек притворялся спящим. Интересно, что он подсыпал ей? Голова тяжелая, перед глазами легкий туман. Как с глухого похмелья.
Бочонок закурила, окинула взглядов свое разоренное гнездышко, нагнулась и подобрала с пола рассыпанные открытки: голые спины, заломленные руки, жадные рты… Пропади оно все пропадом!
Фанни заскочила в комнату, бледная, растрепанная, хлюпнула носом (но тушь на глазах не размазана, заметила Бочонок, взгляд цепкий, острый!).
— Подонок! — прошептала. Фанни. — Подумать только: — такой благородный на вид! — и трагически закатила глаза.
Но Фанни шептала все это достаточно спокойно, разве что специально добавляла жалостливых интонаций. Значит, тоже не шибко пострадала: наверняка этот парень не докопался до ее сбережений, взял только то, что плохо лежало.
— Ну-ну, Фанни, не горюй…
— Не люблю, когда меня обманывают…
Фанни хлюпнула носом и высморкалась
— Ах, Фанни, это я обманулась. Давай сделаем вид, будто ничего не произошло. Будто ничего этого и не было.
— Как «не было»? Было, было! И будет! Всегда будет!
— Подумаешь, раскурочили гнездышко маленько. Приберемся, перышки почистим — все нормально, а, Фанни? С милицией связываться не станем. Придут: «Как да что? И почему? Ах, случайно встретились? И сразу — к делу?» Себе мороки больше, Фанни…
— Жалко, — вздохнула Фанни. — Работаешь, работаешь, приходит какой-то жук и спокойненько все перетаскивает в свою норку. Да еще за просто так натешился, да?
Фанни прижалась щекой к плечу Бочонка и жалобно всхлипнула. Это она умела делать — жалеть.
— А знаешь, — сказала Бочонок, — ничего он не натешился! Хотя, — она замолчала, усмехнулась каким-то своим мыслям, — хотя, знаешь ли, он был на вид такой… ну, теплый, что ли… даже глаза — теплые, и губы, наверное, теплые. Я думала: он — человек.
— Скажешь тоже! — засмеялась Фанни и потянулась за сигаретой. Фантазерка! Все они, одинаковы, только калибры разные. Ну, ничо, малышка, на их кобелиной охоте мы не последние суки. Отыграемся и свое возьмем, да, Бочонок?
Бочонок кивнула. Сегодня надо сходить к Стасу за косяком, туда-сюда вечер наступит. И так тоскливо ей стало от того, что снова надо сидеть на площади, курить, болтать, «снимать», Боже, как мерзко!
Она вскочила и побежала в ванную. К глазам подступали слезы, и она не хотела, чтобы Фанни это видела. Все нормально, малышка!
СУСЕДКА
Повесть
«Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: „Где Бог твой?“»
(Псалтирь, 41, 2–4).Он разбил оконную раму, и, не обращая внимания на её крики, встал на завалинку, спокойно и деловито поддел острые осколки стекла кончиком тесака и сбросил их на снег. Она, не переставая костерить Саню, подскочила к окну и замахнулась топором:
— Попробуй влезь — убью, сволочь!
Он пьяно усмехнулся и, вцепившись в подоконник, просунул голову в проём:
— Я тебя, ей-богу, урою, — Саня погрозил тесаком. — Отойди от окна, по-хорошему прошу…
— Накося, выкуси, — крикнула она и замахнулась топором, но он хрипло, с надрывом рассмеялся:
— Дура-а-а! Я его лет пять не точил. Он тупой. Нашла, чем пугать!
Тогда она бросилась на веранду, надеясь быстро открыть дверь, запертую на крючок и для надёжности обвязанный верёвкой.
Верёвка, однако, не поддавалась: закрученная вокруг крючка какими-то немыслимыми узлами, она никак не распутывалась. В спокойной обстановке Люба, может, и сладила бы с ней, а тут — нервы на пределе, руки ходуном ходят, да ещё этот проклятый топор, который она держала подмышкой, выскользнул и пребольно хлопнул обухом по левой ноге.
— А, сучка, удрать хотела!
Саня, пошатываясь, уже стоял за её спиной. Косматый, со страшными белыми глазами, почерневший лицом, он медленно поднял тесак и, выплюнув изжеванную «беломорину» под ноги, скривил губы:
— Отдай телевизор подобру-поздорову. Лариса хочет «Санта-Барбару» смотреть…
— Вот и купи ей новый, вместо того, который твоя красотка сожгла…
— Да кто ты такая, чтоб мне указывать? — вскипел Саня. — Всю ты жизнь мне испортила…
И поднял свой тесак!
Но и Люба не оробела: быстро нагнулась, подхватила топор с пола и, зажмурившись, изо всех сил лупанула им по Саниной груди.
Он завопил, и Люба почувствовала, как её лицо будто мелкий, теплый дождик окропил. Она машинально провела ладонью по щеке и вздрогнула: на пальцах осталась кровь.
* * *— Уби-и-ла-а-а!
Саня катался по полу и кричал, кричал, кричал.
— Ой, что же это я наделала! — заголосила Люба. — Миленький, родненький, погоди, потерпи немного. Я сейчас бинтик найду…
И побежала уже за этим бинтиком, но Саня изловчился и схватил Любу за ногу. Она упала рядом с ним и увидела тесак, нацеленный прямо в её сердце.
— Прощай, Любаня! — зловеще прошептал Саня и надавил тесаком на её грудь.
И тут она проснулась.
В левом боку, чуть пониже сердца, саднило и кололо. Она провела рукой по этому месту и нащупала какой-то длинный предмет, похожий на напильник.
Господи, и зачем только положила под подушку эту заточку? Всё опасается воров! Вот залезет середь ночи злоумышленник, чтоб её дом обчистить, знают, поди: баба одинокая, защиты нет, муж сбежал к Светочке — разлучнице, так что можно без опаски разбой учинить, — а нате-ка, выкусите, ворюги подлые: у хозяйки в руках — заточка, а под кроватью, между прочим, топор лежит.
Приснилось, значит. Жуть, какой нехороший сон! И кровь ведь была. Это к чему-то недоброму. Надо в соннике поглядеть. Но вставать не хотелось: под верблюжьим одеялом — тепло и уютно, а в доме за ночь выстыло, да и будильник прозвенит только через полчаса: ещё можно подремать.
Люба перевернулась на другой бок, закрыла глаза, но страшный сон никак не шёл из головы. И привидится же такое: сцены будто из фильма ужасов, и Санька — такой злобный, страшный, на упыря похожий, брр!
Она открыла глаза и посмотрела на окно, закрытое цветастыми шторами: из узкого проёма просачивался унылый серый свет, одиноко торчал длинный и узкий лист «щучьего хвоста», опутанный лентой серпантина — всё, что осталось от Новогоднего праздника.
Ёлку Люба не ставила: во-первых, это нынче дорогое удовольствие тридцать пять рублей, а во-вторых — для кого её ставить-то? Веничка в армии служит, Валечка — в городе замужем живёт, большие дети-то, у самих уже, наверное, скоро приплод пойдёт, вот уж тогда для внуков и будет ставить ёлку, а для самой себя — что, ей денег девать некуда?
Любе хватило и трёх пихтовых веток: поставила их в вазу, которую Саня, помнится, на тридцатилетие подарил, украсила их комками ваты, навесила игрушек, обвила серпантином — ах, какой красивый букет получился, и, главное, сразу запахло тайгой.
Полоска серпантина, оставшаяся на «щучьем хвосте», извивалась змейкой, словно кто-то на неё дул. Неужели форточка приоткрылась? «Этого ещё не хватало, — подумала Люба. — Топишь-топишь эту махину, столько угля в печку вбухиваешь, а стены, того и гляди, насквозь промёрзнут. Защёлка, что ли, у форточки отошла?»
Как ни хотелось, а пришлось встать.
Пол ожег пятки холодом, и Люба, поёживаясь, добежала до окна на цыпочках. «Как балерина! — усмехнулась она. — На пуантах! Вот, блин, им бы, этим примам, в моей шкуре оказаться, а? Чтоб — и баба, и мужик, да и лошадь, да и бык! Наверное, и не подозревают, как живут простые бабы…»