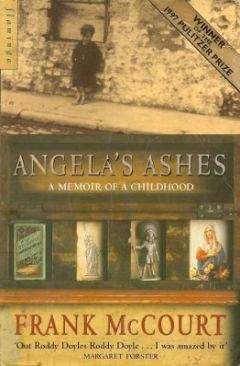Федерико Тоцци - Закрыв глаза
Гизола очнулась и посмотрела на место, где он недавно стоял. И, оттолкнувшись обеими руками от косяка, всем телом подалась вперед. Потом вошла в дом. Сестре она не обмолвилась о Пьетро ни словом.
От любви Пьетро Гизола словно опомнилась. Она чувствовала, что должна его обмануть, чтобы он ее не унизил. Чем сильней и безумней была его любовь, тем упорней ей нужно было защищаться: не потому что ее к нему влекло, не потому что она хотела восстановить свое доброе имя — просто нельзя было допустить, чтобы Пьетро все узнал. Она хотела одержать верх, заставить принять себя такой, какая есть, хотела, чтобы и он запачкался той грязью, от которой сама она так и не смогла уберечься.
Гизола знала наверняка, что если бы, родив, сумела женить его на себе, то имела бы над ним абсолютное превосходство. Она морочила бы ему голову, как хотела!
Но в глубине души она считала, что стала теперь лучше и желанней, чем раньше, когда она была лишь глупенькой, плохо одетой крестьянкой — а еще умней и ловчее, и гордость не позволяла ей признать, как горько будет разочарован Пьетро.
Он был нужен Гизоле лишь потому, что был богат и мог избавить ее от вечной ненадежности ее положения. Она боялась, что постареет, так и не встретив настоящую любовь. И требование Пьетро блюсти добродетель воспринимала с враждебностью, переходившей едва ли не в ненависть, когда она вдруг пугалась, что все откроется.
Она чувствовала, что и наивность его — вовсе не слабость, достойная лишь спокойной усмешки, а в самом деле серьезная помеха. И с каждым днем все сильней ощущала, что почва уходит из под ног, потому что Пьетро был все тот же. И все так же мучил ее своим преклонением, сам того не замечая.
Она считала его эгоистом — и, в некотором смысле, заслуженно. Ведь если бы что-то открылось, он никогда бы ей не простил. Конечно, такая любовь была Гизоле не в радость. При этом она и не думала изменить жизнь, покончить с постоянным унижением — пока не подтолкнули к этому обстоятельства. Лишь совесть ее беспокоила и говорила в пользу Пьетро.
Ей, правда, и в голову не пришло, что стоило бы в первый же день поговорить с ним начистоту — так, чтобы он понял!
Зато она думала, что не настолько его обманула, чтобы заставить поверить, будто беременна от него!
Еще ей хотелось поквитаться с Доменико и то, что она так вскружила голову его сыну, доставляло ей злорадное удовлетворение.
Вдобавок претензии Пьетро смешили ее как сущая глупость, которой в молодом человеке не должно быть вовсе.
Да что ему вообще нужно? Зачем вообще он полюбил ее, а не какую-нибудь сиенскую барышню, ровню по положению?
Верно, впрочем, что этой любовью она дорожила — из-за деда с бабкой и прочей родни. Ведь не исключено, что она станет синьорой и будет жить припеваючи. Значит, лучше бы им с ней считаться. К тому же, она вовсе не старалась запасть Пьетро в память и так ему понравиться: пускай Доменико помалкивает. Это его сын, скорей, воспользовался ее положением — тем, что она на них работала. Это ей приходится полагаться на его порядочность!
В то же самое время она часто вспоминала свою жизнь в Поджо-а-Мели. Она привязалась к нему и, вернувшись туда, с удовольствием принимала комплименты батрачек — комплименты, впрочем, слегка двусмысленные, в которых сквозило, что они не разделяют безоглядного доверия Пьетро, и даже доверчивого потакания Джакко и Мазы.
Ее родители в Радде ничего не посмели ей сказать, поскольку она в первый же вечер, с порога, объявила, что она к ним ненадолго и что все, что о ней болтают, не должно их волновать, потому что это все неправда.
Но для тех же родителей много значило, что одета она была даже лучше, чем дочка мэра, большого богатея. Сестры ей завидовали и про себя считали, что она устроилась куда ловчее их. И, любя ее, родня первой встала на ее защиту.
Борио умер от воспаления легких. Его соперник, управляющий, состарился прежде времени. Столкнувшись с Гизолой два или три раза, он обращался к ней на вы, краснея и приподняв шляпу.
И в деревне ее не судили слишком строго. К тому же прошел слух, что она выходит за сына хозяина «Серебряной рыбки».
О прошлом Гизолы не забыли, но лишь посмеивались беззлобно. Более того, обнаружилось, что девушка она всегда была славная, хоть и послужила причиной пары скандалов. К тому же ее родители, люди небогатые, пользовались уважением.
Но Гизола, расставшись с другом из Бадиа-а-Риполи, побаивалась сама себя.
В памяти часто всплывали проведенные там месяцы — в Бадиа-а-Риполи она наслаждалась свободой и одиночеством и точно знала, что вечером синьор Альберто вернется домой.
Жила она, конечно, не в самой Флоренции, а за городом — но ни в чем не знала недостатка. И во Флоренцию могла ходить сколько душе угодно — главное, чтобы с сопровождающей.
У нее была комната с видом на сад, так испугавший Пьетро. А столовая смотрела прямо на улицу, и никаких домов перед ней не было.
Вместо них была низенькая оградка — ниже пшеничного колоса, а еще кипарис, который летом оплетали вьюнки. На ограде, покрытой сверху толстым слоем известки, росли примулы и какая-то трава с желтыми цветочками.
Чуть поодаль — сверкающий прозрачный ручеек, там стирали белье и развешивали потом на лугу, у самых ворот, обрамленных двумя квадратными столбами, с которых глядели друг на друга две терракотовых собаки.
Пшеницу припорашивала пыль, а сохнущее белье реяло на ветру — словно воздушные змеи, что пускают мальчишки с Марсова поля.
Выйдя на балкон кухни, она окликала торговку фруктами и заказывала все, что нужно, не сходя с места, ведь корзины с товаром стояли прямо под балконом. Чуть дальше была колбасная лавка, где продавали еще и вино. И ветер, задувая с той стороны, приносил запахи с прилавка. Соседние дома занимали семьи зажиточных служащих да несколько зеленщиков. И поскольку жила она сама по себе, никто и не думал возмущаться.
Теперь ей приходилось перебиваться со дня на день. Но чем дальше опускалась она на дно, тем больше начинала ценить Пьетро — именно потому, что не в состоянии была и часу пробыть такой, как он хотел. Но это все меньше ее волновало. И внутренняя неловкость, беспокоившая ее в первые месяцы, уже прошла.
Она стала такой, какой стала. И с каждым днем все больше с этим смирялась. Хотя бы потому, что отступать было бессмысленно.
Из писем Пьетро создавалось впечатление, что они обращены к какой-то доброй и наивной невесте. И она улыбалась сочувственно.
В сентябре Пьетро под предлогом переэкзаменовки вернулся во Флоренцию. Хоть и знал, что только зря теряет время, и считал заслуженным наказанием отлучение от своих книг и товарищей, которые теперь с ним даже не здоровались. У него было ощущение, что он опозорен, что он прячется ото всех. Но от порожденной тоской решимости дойти до самого дна сердце его переполнялось — и билось теперь по-другому!
Из дома на улице Чимабуэ он выходил лишь для того, чтобы поесть. По-другому никак не получалось, как ни терзался он и как ни пытался себя пересилить.
Гизола, оказавшаяся во Флоренции еще раньше него, жила теперь в одном из домов, называемых частными, где зарабатывала хорошие деньги. Получив письмо Пьетро, переправленное ей из Радды, она поспешила к нему, желая, помимо прочего, отвести от себя подозрения.
Хозяйка впустила ее и хотела уже позвать Пьетро, но Гизола ее удержала. Неслышно ступая, она подошла к двери комнаты и постучала кончиками пальцев. Он, догадавшись, кто это, вскочил на ноги и распахнул дверь.
Гизола притворилась, что не хочет заходить. Он затащил ее внутрь и поцеловал, весь дрожа.
— Ну, хватит! — сказала она, улыбаясь и отворачиваясь.
Потом сняла шляпку и села, положив ее на колени. Но он спросил, не удержавшись, чувствуя, как горячо сжалось сердце и кровь приливает к лицу:
— Почему ты уехала из Радды, не написав мне?
И Гизола, чье красивое лицо дышало порой ангельской чистотой, бездумно ответила, не придавая своим словам никакого значения:
— Я только приехала. Моей хозяйке из Бадиа-а-Риполи позарез захотелось, чтобы я вернулась. А в Радде я никому не могла продиктовать для тебя письмо, потому что не хотела, чтобы там знали, что мы встречаемся. Разве плохо я поступила?
— Превосходно. Так значит, она берет тебя обратно?
— Да.
— Тогда хорошо. А ты не можешь хотя бы сегодня побыть со мной?
— Я уже заранее у нее отпросилась.
Он поверил и обнял ее в порыве благодарности.
Они тут же вышли и отправились гулять по Флоренции. Перекусили, а потом сидели и болтали на скамейке в сквере на площади Сан-Марко, где солдаты и праздные гуляки покупают вафли и тыквенные семечки.
Вечером она сказала со смехом:
— Мне пора, а то, если вернусь поздно, другой раз меня уже не пустят.
И они расстались. Ему даже в голову не пришло проверить, куда она направилась.