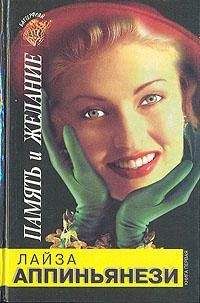Майкл Корда - Роковая женщина
Она оставалась там со своими невольными спутниками, пока Пирог не опустел полностью, и только тогда она повернулась к Саймону и сказала:
— Едем домой.
Глава третья
Роберт Баннермэн стоял перед камином с бокалом в руке. Хотя в камине пылал огонь, Роберта пробирал озноб. Он гадал, не подхватил ли он случайно простуду — в конце концов, между Каракасом и графством Датчесс большая разница температур, но, поскольку он гордился тем, что никогда не болеет, то отверг эту возможность. Элинор тоже выглядела продрогшей, подумал он. Как ни замечательно было ее здоровье, это был очень тяжелый день для женщины восьмидесяти шести лет, особенно после того как пришлось накормить обедом больше ста человек, наиболее привилегированные и важные из которых были оставлены на ночлег.
Дверь приоткрылась. Заглянул пожилой, краснолицый мужчина, пробормотал «извините» и, увидев лицо Роберта, поспешно захлопнул дверь.
Роберт попытался вспомнить, кто это. Уж не кузен ли Эмори, который однажды въехал верхом в особняк Салтонсталлов во время торжественного обеда и перескочил на коне через стол, не опрокинув ни одного серебряного подсвечника и не разбив ни одного фарфорового прибора? Или Эмори уже умер? Роберт не помнил, его это и не волновало, но предполагалось, что как новый глава семьи, он обязан был точно знать подобные вещи. Его отец без всякого видимого усилия вспоминал дату каждого рождения, смерти и брака в семье, возможно, потому что его натаскивала Элинор.
Ну и черт с ним, подумал Роберт. Он потягивал скотч, размышляя, не приказать ли подать еще. На каминной полке, рядом с ним стоял небольшой серебряный поднос с миниатюрным графинчиком. Кайава, вероятно, была последним частным домом в Америке, где спиртные напитки подавались в особых хрустальных графинчиках, вмещавших в себя только две порции. В Кайаве ни один гость даже не видел бутылок — все они хранились в кладовой, под присмотром дворецкого, и, как совершенно был уверен Роберт, слуги при каждом заказе себя не обижали, несмотря на сложную систему учета, призванную этому помешать.
Роберт знал, что пришло время для настоящей «большой чистки» — от решений по капиталовложениям в Фонд Баннермэна до кухни Кайавы, где повар, без сомнения, нагло обкрадывает Баннермэнов. Роберт едва мог дождаться, когда примется за все это.
С бабушкой он встретился в ее красно-золотой «китайской комнате». Стены ее покрывали бесценные панели, захваченные после осады Пекина — чтобы оставить их за собой, Киру Баннермэну пришлось приобрести три музея у Уильяма Рэндольфа Херста, которого презирал. Коллекция китайского фарфора Патнэма Баннермэна располагалась в стеклянных шкафах. Говорили, что она стоит целое состояние, но, по мнению Роберта, это была лишь груда бесполезных и чересчур крупных вещей, которые должны принадлежать музею и отправятся туда сразу, как только представится случай. Полдесятка старинных часов жужжали, тикали и били с регулярными интервалами, действуя ему на нервы.
Перед Элинор Баннермэн на лакированном столике стоял чайный сервиз из фарфора, столь тонкого, что он казался почти прозрачным. Рядом находился длинный стол с фотографиями различного формата в серебряных рамках, расставленных по какой-то, одной ей известной системе, своего рода галерея тех, кто уже ушел из жизни: ее брат Джон, мать Роберта, его брат Джон, дедушка Патнэм, сидящий, как обычно, за рабочим столом, и, конечно, сам Кир Баннермэн в старости, похожий на египетскую мумию — все в нем высохло и сморщилось, кроме глаз, пронзительно глядящих на фотографа и словно говорящих ему: «Как я ни стар, но могу купить тебя или продать, или уничтожить, если захочу».
Фотографий живых не было. Роберт гадал, скоро ли здесь появится фотография отца, и не хранит ли Элинор запас разных рамок от Картье просто для того, чтобы быть готовой к смерти любого из родных.
Две самых больших фотографии, впервые заметил он, изображали его брата Джона и старого Кира. Случайно ли? — спросил он себя. Насчет Кира он мог бы понять. Было хорошо известно, что Элинор восхищалась свекром, чьей непреклонной свирепости и холодной хватки так не доставало ее мужу. Говорили, что старый барон-разбойник тоже обожал ее, выражая ей чувство, в котором отказывал всем остальным, включая сына, и даже своей жене, на фотографиях выглядевшей совершенно запуганной.
Величину фотографии Джона объяснить было трудно. Был ли Джон ее любимым внуком или просто он был старшим и, следовательно, наследником? Роберт пытался вспомнить, но не находил в прошлом ничего, что указывало бы на то, что она отдавала предпочтение Джону или хотя бы принимала его сторону. Интересно, подумал Роберт, какого размера будет фотография отца, а потом решил, что это не важно. В этой комнате слишком много прошлого, и большую часть его лучше забыть.
— Хорошо, что все это кончилось, — сказал он. — Я боялся, что Сеси не сможет через это пройти.
— По крайней мере, в завещании сюрпризов не будет, — заметила Элинор. — Думаю, Кортланд проведет чтение с подобающим достоинством.
— Надеюсь, бабушка.
— Я бы хотела, чтобы ты не выказывал ему неприязнь. Он — твой дядя.
— Я не уверен, что он годится для своей работы, вот и все. За него все делает Букер. — Де Витта, сказал он себе, следует уволить первым, — де Витта, который сражался с ним зубами и когтями, когда он пытался принять на себя какую-либо из семейных обязанностей, де Витта, завалившего — иного слова не подберешь — все дело с заявлением девицы Уолден о браке с отцом. Если бы де Витт был на высоте, он оказался бы на ее квартире до прихода полиции и купил бы ее молчание. Ему следовало бы послать Букера, говорил себе Роберт.
Бабушка налила себе новую чашку чая. Она выглядела так, словно ей следовало бы выпить, но она редко употребляла крепкие напитки, разве что рюмку шерри перед обедом и, по особым случаям, бокал шампанского.
— Кортланда окружают надежные люди, — сказала она. — У его фирмы превосходная репутация. Конечно, все юристы дураки, но без них никак не обойтись. По крайней мере, мы знаем предел возможностей де Витта.
— К несчастью, он этого не знает.
— Как и большинство людей. — Элинор поставила чашку на стол, ее бриллиантовый браслет звякнул о фарфор. — Ты знаешь, что отец всерьез намеревался лишить тебя наследства? Я слегка удивлена, что он передумал и ничего не предпринял.
Роберт уставился на нее. Эта мысль никогда не приходила ему на ум и вызвала неожиданный шок, ощущение предательства, от которого у него перехватило дыхание.
— Не верю! — яростно сказал он. — Он никогда даже не намекал на это.
— Он чувствовал… как же он говорил? Что ты старался «выдернуть ковер у него из-под ног, хотя он был еще жив и брыкался». Он хотел наказать тебя, знаешь ли. Не думаю, чтоб ты представлял, в каком он был гневе.
— Но ведь он не мог этого сделать, правда? Такого еще никогда не случалось!
— Тот, кто обладает контролем на Трестом, может делать все, что ему угодно. Тебе это известно, Роберт, и последние дни ты больше ни о чем и не думал. Полагаю, просто в конце концов твоему отцу не хватило силы воли сломать семейные традиции. Тебе повезло.
— Ты могла бы предупредить меня.
— Предупредить тебя? В свое время тебя предупреждали. Ты не слушал. Ты никогда не слушаешь. А твоему отцу я сказала — то, что ты — молодой дурак, еще не причина ему разыгрывать дурака старого.
Роберт чувствовал себя так, словно внезапно оказался на зыбучем песке. Да, он боролся со своим отцом, но он боролся также за него. И даже, когда все оборачивалось к худшему, он неизменно полагал, что существуют определенные правила борьбы — он наследник, и со временем все должно перейти ему. До какой степени, в конце концов — вот что было причиной их ссоры. Роберт всегда думал о ней в шекспировском духе, отводя себе роль принца Хэла[8], и сейчас ему было тошно от мысли, что он годами так неверно оценивал положение вещей. Он вспоминал о сцене, разыгравшейся после смерти матери, о политической кампании — он хотел выдвижения отца в президенты больше, чем старик желал его сам, разве нет? Подумал о смерти Джона и вздрогнул. Никогда он даже не представлял, что отец может лишить его наследства, сколько бы ни накопилось между ними горечи.
— Будь он проклят! — в бешенстве воскликнул он.
— Я не позволю тебе говорить подобным образом об отце в моем присутствии.
Роберт сглотнул. Он зашел слишком далеко. Есть нечто, сугубо непредставимое, в том числе — повысить голос при Элинор Баннермэн.
— Прошу прощения, бабушка.
— Тебе лучше поучиться сдерживать свой нрав.
— Приложу все усилия. Скажи мне, если бы отец решился на это, кем бы он меня заменил? Как бы он ни относился ко мне, трудно представить, чтоб он оставил все Пату.