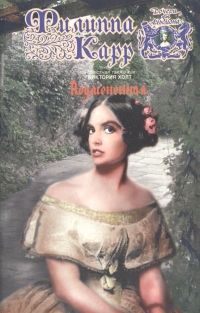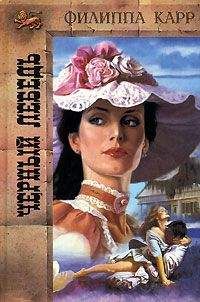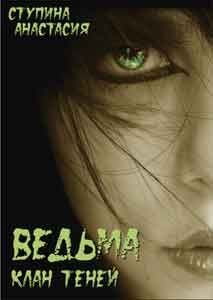Евгения Марлитт - Дама с рубинами
— Дитя мое… Но нет, — прервала она себя, — сегодня я буду молчать, завтра или, может быть, через несколько дней ты много о чем расскажешь мне, и от этого я буду счастлива всю жизнь, я знаю это, а до тех пор я буду молчать.
Маргарита ничего не ответила; она дрожащими пальцами схватила письмо, сунула его в широкий карман платья и вышла, чтобы повесить его на старое место. В эту минуту советница вспомнила, что она спустилась, собственно говоря, лишь за тем, чтобы спросить у тети Софии рецепт торта.
Ландрат, взяв шляпу и палку, вышел в сени. Он стоял у ближайшего буфета и, по-видимому, с большим интересом рассматривал кубки, когда Маргарита прошла мимо него, направляясь в коридор.
— Тебе придется когда-нибудь просить у меня прощения за многое, Маргарита, — вполголоса, но с ударением, через плечо проговорил Герберт.
— Мне, дядя? — она замедлила шаги и с улыбкой подошла ближе. — Боже мой, я готова сделать это сейчас же, если ты того пожелаешь! Дочери и племянницы должны делать это, их гордость от этого нисколько не страдает.
Ландрат совсем обернулся к ней и вместе с тем бросил такой строгий взгляд на приближавшегося Рейнгольда, что тот поспешно повернул назад и с обеими старушками вышел из сеней.
— Кажется, ты считаешь годы, в течение которых мы не видались, для моей особы вдвойне? — мрачно спросил Герберт, — я, вероятно, кажусь тебе очень старым и почтенным, Маргарита?
Она слегка наклонила голову набок, и ее задорные глаза окинули его лицо внимательным взглядом.
— Нет, дело еще не так плохо; я не вижу ни одного седого волоска в твоей прекрасной бороде.
— Уже достаточно плохо одно то, что ты отыскиваешь их. — Герберт посмотрел в ближайшее окно. — Мне было немножко странно, что ты при приезде так почтительно приветствовала меня; насколько я помню, только Рейнгольд называл меня дядей, а ты — никогда.
— Да, это — правда; твое лицо не внушало мне почтения, потому что было «кровь с молоком», как всегда говорила Варвара.
— Ах, вот как! А теперь цвет моего лица достаточно старческий.
— Это больше не имеет значения, все дело в бороде; такая аристократическая борода импонирует, дядя!
Он насмешливо поклонился.
— А потом, когда я, третьего дня вечером, видела тебя сидящим возле той красивой дамы и когда ты вышел в сени и в тебе с головы до ног был виден первый чиновник в городе, и все твое существо сияло отблеском княжеского благоволения, — чувство почтения вдруг овладело мною и подавило меня, так что мне было чрезвычайно стыдно.
— Значит, я должен быть в восторге, что титул дядюшки так свободно слетает с твоих уст!
— Ну, знаешь ли, этого нельзя требовать так, без всяких условий. Я вполне понимаю, что не особенно приятно, когда старая дева, как я, называет тебя дядюшкой, но только ничего не могу сделать. Мы, бедные дети, и так обездолены; у нашей матери был только один брат, и тебе уж придется примириться с тем, что ты всю жизнь будешь для нас дядей Гербертом.
— Прекрасно, я согласен на это, милая племянница, но ты, вероятно, знаешь, что этим самым берешь на себя обязанность повиноваться этому дядюшке.
— А, ты думаешь вот это! — и, вся вспыхнув, Маргарита положила руку на карман, в котором лежало только что полученное письмо, и ее глаза сверкнули враждебным блеском. — Да, у тебя совсем такие же взгляды, как и у бабушки; вы гордитесь тем, что предстоит мне, и открываете предполагаемому жениху сердце и объятия, даже не видев его; да и к чему? Вы знаете его имя, и больше вам ничего не нужно; однако тебе известно также упрямство твоей племянницы, и, быть может, тобою овладеет тайный страх от того, что она в состоянии сделать громадную глупость и предпочтет остаться Гретой Лампрехт. Семья Маршал намеревается взлететь к самым облакам, и, конечно, ее интересы требуют, чтобы родственные ей Лампрехты так же возвысились.
— Ты изумительно прозорлива!
— Нет, дядя, ты слишком высокого мнения обо мне; прозорливости у меня нет ни настолько! — и она подняла мизинец правой руки. — Для меня весь воздух нашего дома представляется живым, одухотворенным существом; из всех коридоров и уголков я слышу шепот и шелест; я родилась в воскресенье и всегда вела дружбу с домовыми. Раньше они шептали мне о древних временах, о серебряных нитях льна, которые на чужбине превращались в золото и возвращались в шкатулки моих прадедов; теперь они шепчут мне совсем о другом блеске — о княжеском благоволении и милости, о расположении прекрасных, благородных дам и о старой плебейской крови, которая теперь, после многих столетий, созрела для того, чтобы раствориться в высшей касте; дальше они рассказывают мне о новой комедии в доме Лампрехтов, в которой должна принять участие даже глупая Грета; они думают, что достаточно возложить баронскую корону на ее спутанные волосы — и все готово. Но, знаешь ли, дядя, тут придется все-таки спросить и меня. Берегитесь, чтобы птичка не улетела; меня вам не поймать!
— Еще никто не пытался.
— Попробуй, дядя, — сказала она, уходя и лукаво взглянув на него через плечо.
— Я принимаю твой вызов; только заметь одно: раз я поймаю птичку, то песенка ее спета.
— Ах, бедняжка! — засмеялась Маргарита, — только я не боюсь тебя, дядя!
Она грациозно поклонилась, сдерживая улыбку, и поспешно пошла в коридор, проворными руками расстегивая крючки; она слышала, как ландрат вышел из сеней; одновременно на лестнице послышался голос ее отца. Оба господина приветствовали друг друга, по-видимому, у двери; затем она захлопнулась, и коммерции советник вошел в комнату.
Он еще утром уехал в Дамбах, обедал там и только теперь вернулся домой. Маргарите хотелось поздороваться с ним, тем более, что сегодня утром он сидел на лошади с мрачным лицом и, в ответ на ее радостное «доброе утро», еле кивнул головой, ничего не ответил. Это больно укололо ее сердечко, но тетя София утешила ее. По ее словам, это был снова такой тяжелый день, когда следовало молчать и не попадаться ему на глаза.
Шелковый шлейф прекрасной Доры снова исчез в глубине шкафа. Маргарита только что собиралась причесать волосы, как услышала, что дверь в комнате отца снова открылась. Он направился в сени.
Маргарита испугалась; она была в нижней юбке и вообще не хотела, чтобы он видел ее здесь, так как не знала, в каком настроении он возвратился и как отнесется к ее покушению на почтенную фамильную древность; она невольно скользнула в шкаф, зарылась в волны шелка и тихо закрыла за собою дверь.
Несколько минут спустя, коммерции советник показался в коридоре, и дочь могла видеть его в узкую щель. Прогулка на свежем воздухе и пребывание в Дамбахе не согнали выражения мрачной меланхолии с его красивого лица; у него в руках был маленький букет из свежих роз, и он равнодушно проходил между рядами портретов своих предков. Только портрет прекрасной Доры, казалось, произвел на него неприятное впечатление; он отшатнулся и закрыл глаза рукой, как будто у него закружилась голова. Он что-то пробормотал про себя и, яростно схватив тяжелую раму, повернул ее к стене так, что она стукнулась о камень и затрещала.
У испуганной Маргариты захватило дыхание; ей казалось, что тихий старый дом должен сделаться ареной ужасных событий. Однако ничего ужасного не произошло, с исчезновением этого женского образа волнение ее отца, по-видимому, улеглось; он прошел возле самого шкафа, где была Маргарита, и затем в ближайшем дверном замке повернулся ключ, коммерции советник вошел, снова вынул ключ и запер дверь изнутри.
Маргаритой овладел страх. Что делал он там наедине со своими мрачными мыслями, в этих заброшенных комнатах, среди тишины и мрака. Быть может, он искал именно этой могильной тишины в те минуты, когда не мог избавиться от своего злого демона в житейской суете; эта тишина, вероятно, успокаивала внутреннюю бурю и горячую кровь, затемнявшую его рассудок. Да, он был болен; это не была, как уверяла бабушка, только тоска по ее умершей матери; в первые годы после ее смерти он вовсе не был таким озлобленным и мрачным. Нет, он был болен, его преследовали и мучили какие-то призраки. Это Маргарита заметила уже в первый день своего приезда. Он, в высшей степени порядочный человек, глава всеми уважаемой фирмы Лампрехт, на чести которого не было ни малейшего пятнышка, вдруг вообразил, что может наступить время, когда на него будут показывать пальцами и он будет изгнан из тех кругов общества, куда его неудержимо влекло честолюбие. Сердце Маргариты сжалось при воспоминании о том, что отец в тот момент почти умолял ее о сострадании и взывал к ее детской любви. Вот до чего довела его коварная болезнь!
Еще несколько минут она прислушивалась к тому, что делается за запертой дверью, но там царила мертвая тишина; затем она выскользнула из шкафа и, схватив свое платье, побежала в одну из комнат, чтобы поспешно привести в порядок свой туалет. Какое счастье, что папа не вернулся домой десятью минутами раньше! Если нарисованное безжизненное полотно приводило его в такое сильное волнение, то что было бы, если бы он принял ее за эту злополучную женщину!