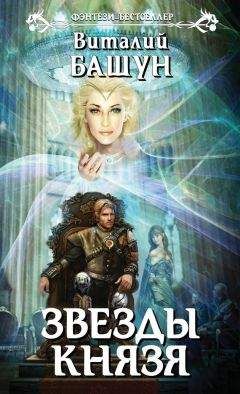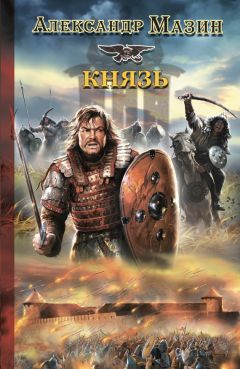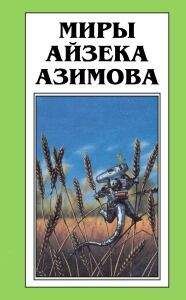Антон Дубинин - За две монетки
— Вай! Гильермо, а ведь вы угадали! Две сестрицы постоянно возились со своими красотками, а меня и близко не подпускали — положение обязывает, мальчишке не положено. Приходилось довольствоваться машинками и конями. А какой шум подняла однажды мать, когда я запеленал тирольского щелкунчика и забрал с собой в постель!
Гильермо почувствовал, как горячеют скулы, и поспешно извинился за бестактность.
Вместе с субприором они выбрали и одежду, достойную небедного итальянского туриста, преподавателя, не чуждого спорту. Гильермо показал себя неожиданно капризным и сам себя удивил: он искренне считал, что ему все равно, что надевать, и вдруг обнаружил, что выбор между светло-голубыми джинсами и спортивными брюками с множеством карманов дается ему не так легко. Особенно много времени потратили на выбор обуви: брат Марио старательно гнул в разные стороны каждый башмак, попадавшийся ему в руки, довел до белого каления продавцов трех спортивных магазинов, требуя принести партии со склада, заставил самого Гильермо раз восемь молчаливо поклясться, что больше он с Марио не пойдет даже за хлебом, не то что за одеждой, и наконец милостиво остановил выбор на паре «настоящих адидасовских» черно-белых («ну, хоть расцветочка орденская!») кроссовок — легких, но одновременно монументальных, не промокающих, годных на любую погоду и очень приятных на ноге. Гильермо, у которого не было такой хорошей обуви, наверное, лет тридцать, со времен Милой Франции и богатых родственников, моментально простил субприору свои мучения. Все предыдущие его башмаки, за редким исключением, имели схожее происхождение: зная о своей склонности стремительно рвать обувь, за пару месяцев превращать любую новинку в развалину с треснувшей подошвой и рваным задником, он с благодарностью принимал в дар от братьев все, что более-менее приходилось ему по ноге. Так и так ведь порвется, зачем тратить деньги, тем более что нищенствующему сгодится и кроссовок с дырой на месте большого пальца — если надевать черные носки, будет незаметно… Единственной обувью, прослужившей Гильермо несколько лет кряду и вызывавшей у него нечто вроде привязанности, были его ременные сандалии, присланные мамой из Франции, из траппистского аббатства. Трапписты знали толк в сандалиях: те совершенно не рвались по простой причине, что рваться там было нечему, вся конструкция — толстая подошва и четыре сыромятных ремешка. Однако для России вечные сандалии категорически не подходили, и Гильермо с изумлением обнаружил, что новые кроссовки своими пружинящими подошвами вызывают в ногах какую-то детскую радость, желание идти, бежать, не стоять на месте. Пожалуй, их новизна имела некоторый смысл, как ни досадно в этом себе признаваться доминиканцу, громко присвистнувшему при взгляде на платежный чек. Впрочем, брат Марио поспешно бросил чек в мусорную корзину и сообщил, что это расходы на миссию, а значит, полностью оправданы.
Однако сейчас, в аэропорту, у Гильермо и вспомнить не получалось того странного удовольствия от собственной одежды. Без хабита, да еще и без бородки он чувствовал себя совершенно голым, никчемным, слишком ярким — как клоун в будничной толпе. Поминутно глядя на часы, он искал, куда еще девать глаза — в сторону терминала, на доску прибытий, на мелькание города за стеклянными стенами — лишь бы не смотреть на веселую толпу в трех шагах от него. Марио отвез Гильермо в аэропорт, коротко попрощался, пожал руку — благословить на глазах прочих пассажиров казалось ему неуместным — и отбыл восвояси, а вот спутник бедняги миссионера, навязанный ему на капитуле, прибыл к самолету в сопровождении, кажется, всей своей немаленькой семьи. И теперь эта самая семья, в которую непонятным образом вписался и фра Анджело — несмотря на суровую рекомендацию приора не провожать отбывающих в Россию никому, кроме светских лиц — вся эта толпа из шести — нет, семи мужчин и нескольких женщин клубилась вокруг Марко, гомоня, как цыганский табор.
У Марко было все для совершенного счастья. Не об этом ли мечтал он в семьдесят шестом, замерев со сведенными молитвой руками на площади Синьории: он отправляется в миссию, более того — отправляется в Россию, окруженный восторженной любовью своих… Перед отъездом обоим братьям дали по две недели каникул; Марко провел их с семьей, и за это время его отбытие успели отпраздновать не менее дюжины раз. Бабушка и мама, что называется, натерли его в дорогу до медного блеска; Сандро, избранному изо всей семьи законодателем мод, было велено накупить для брата надобной одежды, Пьетро сходил с ним к лучшему мужскому парикмахеру в округе, бабушка раз десять перебрала его рюкзак, следя, чтобы не было недостатка ни в сменах белья, ни в бритвенных лезвиях, ни в теплых вещах — ну и что, что июль, погода в России очень переменчива… Пьетро на прощание приготовил ему особый подарок — раздобыл целых три альбома Брандуарди на кассетах, чтобы удобно было слушать в дороге. Они с Джованной и с обоими сыновьями тоже прибыли в аэропорт, и адвокат увенчал пакетом с музыкой горку сумок и мешков с бутербродами, леденцами, жестянками пива и колы, которые в таком количестве за четырехчасовой перелет могли бы понадобиться разве что Пантагрюэлю.
— Вы что, думаете, я сойду с самолета и тут же открою в России свой киоск? — отбивался Марко от бабушки, убедительно совавшей ему в пакет термос с травяным чаем. — Нонна! Помилуй! В самолете кормят! Анджело, скажи им хоть ты! Кстати, хочешь вот пива? Держи, будь другом, да не банку, а весь мешок, и прочих угостишь, куда я с этим обозом…
Марко выглядел просто замечательно в новеньких спортивных штанах — модных, с отстегивающимся низом, так что в случае жары светлые брюки превращались в отличные шорты. На футболке у него красовался флорентийский лев, на кепке — триколор Италии, на поясе блестел плеер, слишком коротко, не на его вкус, подстриженные золотистые волосы («Такая самая длина, не спорь, за две недели они отрастут точно как ты любишь!») благоухали шампунем, карман топорщился от пачки купюр, которые вдобавок к подаркам отца и старшего из братьев в последний момент подсунул Филиппо — на сувениры из России. Окруженный друзьями и родней, смеющийся и спортивный, отправляющийся в путешествие своей мечты — и не только своей, половина братьев завывала от зависти, узнав, что он увидит олимпиаду — давно он не чувствовал себя в худшем дерьме. Смеясь очередной шутке Симоне, он боролся с диким желанием надеть темные очки. Когда ты в очках, другие не видят, куда ты смотришь. А смотреть хотелось в сторону, где у стены стоял совершенно одинокий человек, турист, которого никто не провожал, такой непривычный без усов, будто ровесник, изжелта-смуглый в ярко-белой рубашке… Не человек, а бельмо на глазу! Ну что же это такое? Всю дорогу будет так же невозможно дышать?
Веселые оклики родных; твердые ладони бабушки, последний раз охлопавшие его одежду в поисках малейших складочек и недочетов; хлопки по спине, блеск милых глаз, мамин голос, что-то убедительно и совершенно невнятно заповедующий ему на дорогу, — все это растворялось, плыло и отдалялось раньше времени, потому что наличие в поле зрения одного-единственного человека было как гвоздь, забитый в самую середину груди. Только он, поминутно глядевший на часы, недовольно отворачивавший лицо, оставался четким и ярким, и Марко не знал уже, не представлял, предчувствуя пытку, как выдюжит целых две недели в его компании.
До самолета еще час с небольшим. Скоро начнут пускать. Бабушка в сотый раз похлопала ему по карману, напоминая, где лежит паспорт и билет. До сих пор Марко умудрялся не плакать — но был уверен, что хотя бы двухминутный перерыв на выпускание боли наружу устроит себе по ту сторону терминала.
Гильермо было особенно не на что тратить неожиданный отпуск — во Францию его не пустили, посоветовав избегать лишних пересечений границ перед и без того непростой миссией, всячески не привлекать внимание. Он попытался было вызвонить к себе маму, движимый острым желанием повидаться перед отъездом, — хотя, казалось бы, две недели невеликий срок, случалось им не видеться и по году… Однако мама отказалась приезжать — слишком поспешно это все, она уже не так легка на подъем, да и с деньгами сейчас не слишком, и работы много — на винограднике каждые руки нужны, как раз созрел сорт гренаш, и в винодельне тоже кто-то должен заменять отца, он уже не молод, а месье Таннери и Амели вдвоем не справляются… В общем, мама благословила сына по телефону, послала ему через Ардеш и Альпы воздушный поцелуй — и он уныло поехал в Сиену, где провел время гостем в полусвоем доме с почти совершенно сменившимся составом жителей, унывая от того, что служит мессу как автомат, не чувствуя ни Хлеба, ни Крови; пытаясь привыкнуть к мысли, что это теперь снова будет его монастырь. И это в лучшем случае: в худшем провинциал посулил послать его преподавателем в Анджеликум, в нелюбимый Рим, где, кроме далекого друга Лабра, не осталось никого и ничего родного.