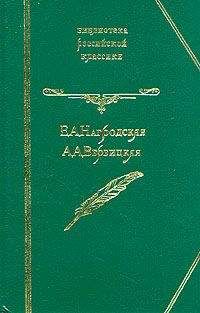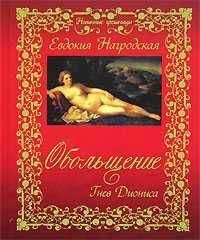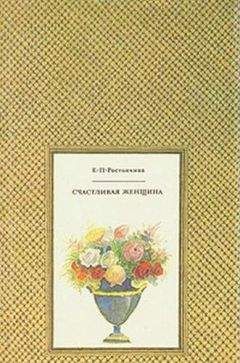Евдокия Нагродская - Аня и другие рассказы
— Отвечай мне на вопрос… ты сама видела письма?
— Да, мама, мне Оля показывала. Оля — поверенная Лизы.
— Оля! Прекрасно! Взрослая девушка, курсистка — и поощряет такую ужасную вещь!
— Полно, мама. Оля хохотала, показывая мне письма…
— Странное отношение! Вместо того, чтобы сказать мне, — смеяться!
— Мамочка, Оля поступила лучше меня — она не хотела тебя расстраивать…
— Оля дома?
— Да не раздувай ты так эту историю. Такая глупость, стоит об этом говорить… Надо было только лишить Лизу возможности видеться со своим вздыхателем.
— Как фамилия этого гимназиста? Надо написать письмо его родителям.
— Брось, мама. Успокойся ты, ради Бога, — с отчаянием говорит Аня, смотря на нервно подергивающееся лицо матери. — И зачем я только сказала тебе!
— Зачем сказала? Ты раскаиваешься в своей откровенности! Вот это самое ужасное — эта ваша неоткровенность! Всегда все скрываете!
— Мы бы были откровенней, мама, если бы ты относилась ко всему спокойнее, но зная, как ты все это принимаешь…
— А как я должна это принимать?! Позови Олю. Как ей не стыдно было скрывать! Сама на педагогических курсах, готовится в воспитательницы… Позови Олю!
Аня идет и зовет Олю.
Теперь подымется история! Что будет говорить Оля, кокетливая Оля, которая чуть не с двенадцати лет вела подобные переписки и теперь флиртует направо и налево!
И, несмотря на это, Аня нисколько не боится за Олю, тогда как постоянно дрожит за нервную, впечатлительную Лиду.
Когда Оля влетает ночью к Ане, будит ее и объявляет, что она «безумно влюблена» или «отчаянно, безнадежно полюбила», Аня, спокойно улыбаясь, выслушивает признание сестры и спокойно засыпает, прекрасно зная, что эта «безумная любовь» продолжится всего несколько дней и заменится новой «безнадежной страстью» или «на этот раз уже настоящей, крепкой любовью».
Сколько раз Оля, с видом нашкодившей кошки, умоляла Аню: «Сестричка, милая, ты уж как-нибудь устрой. Я приняла его предложение, а… а теперь не знаю, что мне делать… он мне совсем не нравится. Ты уж как-нибудь выкрути меня… избавь от него».
Не то было с Лидой.
Лида была такой серьезной и сдержанной, никогда Ане не изливалась, но Аня прекрасно знала, что если Лида «не дай Бог, влюбится», — быть драме. Один раз она съела все зеленые краски из акварельного ящика Пети.
Правда, она отделалась рвотой, но из записки, написанной ею на имя Оли, оказалось, что причиной этой рвоты была неразделенная любовь к одному студенту.
В другой раз Лида серьезно заболела, узнав, что ее «предмет» женится на другой.
Недаром Аня со страхом и трепетом следила за «поклонниками» Лиды.
За обедом было скучно и тяжело.
Между матерью и отцом были натянутые отношения, хотя они старались не показать этого.
Оля и Лиза дулись на Аню за то, что она их «выдала». Лида была мрачна и ничего не ела.
Все молчали и, когда встали из-за стола, разошлись по своим комнатам.
Аня села за пианино в темной гостиной.
Она играла плохо — больше по слуху.
Ей было тяжело сегодня, как-то тяжелей обыкновенного.
Тяжело быть одной. У них такая большая семья, а все они как-то сами по себе.
Все одиноки и все ищут чего-нибудь вне дома. Отец… Аня теперь всегда вздрагивала при мысли об отце. Они оба избегали друг друга.
А прежде он был единственный человек, с которым она могла говорить откровенно, хотя почти никогда они не сходились во мнениях.
Мать… вот она упрекает детей, что они лгут ей и скрытничают.
Она, Аня, никогда до последнего времени не лгала матери, но зато никогда и не шла к ней со своими вопросами и сомнениями. Она пробовала много раз, но с матерью нельзя говорить.
У Варвары Семеновны была «одна правда», и такая узкая правда. Все было разложено по ящичкам, а если какое-нибудь понятие не лезло ни в один из них, она волновалась, выходила из себя и, не объяснив, а может быть, и сама не поняв, расстраивалась, выходила из себя.
У нее была такая определенная вера. Раз навсегда она поставила себе жизненные правила и все, что хотя бы отдаленно противоречило этим ее понятиям, считала или ненужным, или преступным.
У нее были свои авторитеты в литературе, в искусстве, в науке. Она их приняла раз навсегда. Они были и есть, а остальное «от лукавого».
«Если бы мать была религиозна, — думает Аня, — какая бы из нее великолепная вышла игуменья монастыря! Да, будь она религиозна и воспитай нас в этом направлении, она казалась бы нам „логичной“ в своей нетерпимости, импонировала бы нам, и мы бы слепо повиновались ей».
А теперь?
О, если бы у нее была другая мать! Более грешная, с более широкой правдой!
Вот в эту бы минуту припала бы она к ее груди, рассказала бы все свои муки, все свое горе!
И, может быть, та, другая мать, в ужасе, в отчаянии, но обняла бы ее, как обняла Соню Мармеладову ее мачеха… Раскольников поклонился Сонину страданию. А кто может поклониться ее?
Она не спасает от голода свою семью, а сохраняет ей только «привычную роскошь». Только честь, а может быть, ложное понятие о «чести семьи».
Она, сама не голодная, не презираемая, в тайне совершает продажу своего тела.
И нет святого страдания, нет «красоты жертвы».
И этого утешения нет у нее!
Нет даже самого главного: нет обиды и оскорблений, нет грубого, пьяного покупщика. Ее встречают, как царицу, говорят ей о страсти, о любви, о безграничном восхищении…
А вчера пятый вексель ей отдали «даром».
И она дрожит и боится одного. Боится, что отвращение начинает сменяться чувством равнодушия… э, мол, все равно.
А раз все равно, где же заслуга? Где жертва? Где хотя какая-нибудь искра «красоты поступка»?
Хоть бы уйти куда-нибудь! Уйти от этих мыслей, от одиночества в этой любимой большой семье.
— Аня, а Аня!
— Что тебе, Петя?
Петя подсаживается к Ане и обнимает ее за талию.
— Тебе что от меня надо, Петя?
— Почему «надо»? — удивляется он.
— Да так. Когда же ты бываешь ласков со мной, когда тебе ничего от меня не надо? — говорит она грустно.
— Что это ты? — спрашивает Петя. — Я не привык от тебя слышать такой тон.
— Какой тон?
— Лирический… как у Лиды, — насмешливо произносит он.
— Гм… ну, что же тебе надо от меня?
— Конечно, денег, chère soeur[5]!
— Ты же недавно получил от отца свои тридцать рублей?
Петя свистит.
— Куда же ты дел в неделю тридцать рублей?
— Ах ты, простота!.. Ты меня уж выручи, Аня: на этот раз мне, серьезно, очень нужны деньги.
— Откуда же я возьму денег, Петя? Вы все получаете от отца так называемое жалованье — я одна не получаю.
— А из «хозяйственных»?
— У меня это время ужасно мало денег — у папы задержка в получках… я даже задолжала в лавке.
— Черт знает что такое! — вскакивает Петя. — На эту испанку у него есть деньги…
— Петя!
— Да что Петя! — передразнивает он ее. — Послушала бы ты, какую нотацию он мне прочел, когда я вчера сунулся попросить у него денег: и мот-то я, и пустой мальчишка. Другие, мол, живут на тридцать рублей… Я сам знаю, что живут! И я стал бы жить, если бы знал, что эти деньги, как некоторым моим товарищам, присылает бедняк-отец, урезывая себя во всем… При таких обстоятельствах я даже отказался бы совсем от этих денег — кормился бы работой!.. А тут? Я прекрасно знаю, что меня лишают этих денег только потому, что ублажают себя! Сам наслаждается жизнью, тратит тысячи на женщин, а мне отказывает в четвертном билете!.. Я молод, я хочу жить, пользоваться жизнью, а ему пора уже грехи замаливать… Возмутительно! Слушай, нет ли у тебя хотя десятки?
— У меня нет ни копейки, Петя!
— Э, черт! — и Петя заходил по комнате.
Аня тихо перебирала клавиши пианино.
— Я дома просидел целую неделю, — жалобно заговорил он, — просто сил нет, такая тощища… Все ходят, как сонные мухи, а чуть вечер, все разбегутся в разные стороны.
— Отчего ты и сестры не соберете ваших знакомых, как прежде бывало, — ведь было весело?
— Кого можно звать к нам? Ты знаешь маму. Тот пустой, та слишком развязна, у этой платье декольте, тот фатишка… Мама не позволила приглашать сестрам ни Грин, ни Лаевых, ни Розенбаум, потому что нашла их «пустыми кокетками». Такие женщины, как мама, не прощают девушкам, если они красивы и желают нравиться, потому что сами этого не умеют… Ну сестрицы и стали приглашать «гладеньких в английских кофточках», а мои товарищи и спрашивают, откуда у вас такая кунсткамера? Два вечера проскучали и ходить бросили — не хотят. Да и вообще, кто у нас бывает? Поневоле все мы стараемся из дому бежать. Сестрам хорошо — они пойдут к подругам, поговорят, поспорят, потанцуют… А я куда пойду? К товарищам? — сейчас устроится какая-нибудь «вылазка», и нужны деньги. Хочется и в театр, и в ресторан… я так люблю театр…