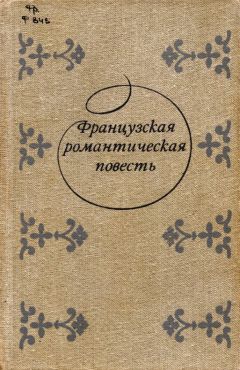Бенжамен Констан - Амелия и Жермена

Обзор книги Бенжамен Констан - Амелия и Жермена
Бенжамен Констан
Амелия и Жермена
Обе женщины, чьи имена стоят в названии публикуемого текста, — лица не вымышленные, а вполне реальные. Однако роль, которую они сыграли в жизни автора, французского писателя, мыслителя и политического деятеля Бенжамена Констана де Ребека (1767–1830), оказалась очень разной. Если безвестная дочь пьемонтского капитана Амелия Фабри (1771–1809) занимала мысли Констана не слишком долго, то роман со знаменитой писательницей Жерменой де Сталь, с которой он познакомился в 1794 году и которая стала его любовницей двумя годами позже, длился до 1811 года, несмотря на все мучительные сцены и объяснения и даже несмотря на женитьбу Констана в 1808 году на Шарлотте фон Гарденберг. Впрочем, жизнь с Шарлоттой Констану также скоро надоела, и в 1815 году он страстно влюбился в Жюльетту Рекамье — многолетнюю приятельницу и одновременно соперницу Жермены де Сталь.
Вообще Констан был человек весьма страстный и влюбчивый. Его биограф называет тот период его жизни, на который пришелся эпизод с Амелией, «эпохой, полной самых разнообразных женщин, начиная с неизменной Жермены де Сталь и внезапно возникшей вновь Шарлотты фон Гарденберг и кончая гетерами самой низкой пробы, не говоря уже о бесчисленных потенциальных невестах». Констан и сам отдавал себе отчет в этой своей черте и довольно трезво писал о себе в дневнике: «Что я за глупая тварь! Влюбляю в себя женщин, которых сам не люблю. Затем вдруг любовь налетает на меня как вихрь, и связь, которую я завел лишь скуки ради, переворачивает всю мою жизнь. Пристало ли это человеку умному?» Сознавал он и другое обстоятельство, а именно то, что со времени знакомства с Жерменой де Сталь всякую другую женщину он был обречен воспринимать на фоне Жермены и по контрасту с ней. Так, Шарлотта фон Гарденберг, с которой Констан после недолгого платонического романа в 1793 году вновь повстречался лишь одиннадцать лет спустя, очаровывает его прежде всего тем, что она непохожа на г-жу де Сталь. «Жермена порывиста, эгоистична, поглощена своими собственными делами, — пишет он в дневнике, — Шарлотта нежна, кротка, скромна и покойна и по причине этого несходства становится мне в тысячу раз дороже. С меня довольно женщины-мужчины, которая безраздельно повелевает мною вот уже десять лет; меня пьянит и чарует привязанность женщины, которая стремится быть только женщиной». Особенно важно здесь слово «кротость»; оно не раз повторяется и в тексте «Амелии и Жермены»: именно это качество, которого была лишена г-жа де Сталь, Констан надеялся найти в потенциальной невесте. Констан долго и безуспешно стремился «освободиться» от тирании Жермены; подобно герою своей повести «Адольф», он пытался признаться ей «не в любви, а в ненависти». Однако связь с Жерменой Констан явно воспринимал как «вечную», поэтому, когда в 1814 году, через три года после их последнего свидания, он вновь увиделся с прежней любовницей в Париже и убедился, что она наконец охладела к нему, он с некоторым изумлением занес в дневник: «Теперь у меня не осталось никакой неопределенности относительно будущего, ибо в ней [Жермене] не осталось и следа чувства» (по-видимому, ему казалось, что «неопределенность» в их отношениях будет длиться бесконечно и у них всегда останется возможность начать все сначала).
Бенжамен Констан вошел в историю литературы (и тем более в сознание русских читателей) как автор одного произведения — повести «Адольф» (1806–1810, изд. 1816). Сам Констан, по всей вероятности, надеялся прославиться совсем другими свершениями: при Наполеоне он был членом Трибуната, в эпоху Реставрации публиковал многочисленные публицистические статьи, проникнутые либеральным духом, и принадлежал к либеральной оппозиции в палате депутатов; в течение многих лет он работал над фундаментальным трудом по «сравнительному религиоведению» — книгой «Об источниках, форме и развитии религии», первый том которой вышел в 1824 году, а последние, пятый и шестой, — посмертно, в 1831-м. Однако если в 1820-е годы у Констана-публициста были в России горячие поклонники (к их числу принадлежал, например, П. А. Вяземский, назвавший его «непреклонным приверженцем всего, что развивает до законных пределов независимость человека»), то современному русскому читателю все эти стороны деятельности Констана известны гораздо меньше. Неизвестна в России и художественная проза Констана (за исключением «Адольфа»). Впрочем, и французы открыли для себя автобиографические произведения Констана довольно поздно: «Моя жизнь», иначе называемая, по цвету переплета рукописи, «Красной тетрадью», впервые опубликована в 1907 году; «Сесиль» — в 1951 году; «Амелия и Жермена» — в 1952 году. Между тем все эти сочинения не только почти ни в чем не уступают «Адольфу», но позволяют лучше понять некоторые психологические механизмы, управляющие констановской прозой.
Констан принадлежит к тому же типу писателей, что и его не менее (если не более) прославленный современник Шатобриан: это авторы, не любящие и не умеющие «выдумывать» сюжеты и персонажей. Как Шатобриан вложил в своего самого прославленного героя, Рене, очень много черт собственного характера, так и Констан, сочиняя «Адольфа», черпал психологический материал преимущественно из своей души и из своих взаимоотношений с женщинами («Моим пером водило не воображение», — признавался он в дневнике). Сходным образом именно о себе он писал в «Красной тетради» и в «Сесили». С этим обостренным автобиографизмом связано, очевидно, и то обстоятельство, что ни одно из этих произведений (за исключением «Адольфа», да и его Констан отдал в печать после долгих колебаний) не было опубликовано при жизни автора. Дело, по-видимому, не только в том, что себя как политического мыслителя Констан ценил куда выше, но и в чрезмерной откровенности его «художественной» прозы.
Пушкин, процитировав в статье 1830 года «О переводе романа Б. Констана `Адольф'» свои собственные строки из седьмой главы «Евгения Онегина», назвал «Адольфа» одним из «двух или трех романов,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом», —
и добавил: «Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона». Пушкин, однако, вряд ли знал, что к Констану вполне применима и та характеристика, которую он сам в другой заметке («О драмах Байрона») дал английскому писателю: «В конце концов он постиг, создал и описал единый характер (именно свой)». Это сходство Адольфа и «я» автобиографической прозы Констана, общность психологических механизмов, в этой прозе раскрываемых, стали понятны лишь много лет спустя, когда увидели свет «Красная тетрадь», «Сесиль», «Амелия и Жермена». Конечно, реального Констана — мыслителя, политика, публициста — отличала от его героев возможность действовать, применять свой незаурядный талант в реальной политической и литературной жизни, а не только в анализе собственных отношений с одной или несколькими женщинами. Однако характер Констана давал себя знать и в его общественной деятельности, что не укрылось от внимания проницательных современников.
Историк и дипломат Проспер де Барант писал о Констане: «Политика одушевляла его жизнь, заставляла биться пресыщенное сердце, действовала на него, как азартные игры, которые он по-прежнему любил и в которых по-прежнему нуждался. Он затевал в палате и газетах процессы, дуэли, споры. Благодаря всему этому он не ведал ни пустоты, ни скуки, но вел существование лихорадочное. Впрочем, несмотря на беспокойную жизнь, ум его оставался свободен, независим и погружен в созерцание самого себя. Более скептический, чем когда-либо, — что его не столько успокаивало, сколько мучило, — он по доброй воле ввязывался в самые страстные споры. „Я в ярости! а впрочем, мне это безразлично“ — вот фраза, рисующая его сполна». В этих строках, написанных Барантом через много лет после смерти Констана, можно заподозрить след знакомства с «Адольфом», однако точно так же Барант характеризовал Констана и в письме к жене от 15 мая 1815 года (то есть за год до публикации романа). Констан, говорит Барант, «следуя своей обычной методе, кажется, насмехается над тем делом, которое отстаивает. Он пересказывает статьи из „Монитёра“ и сам же первый над ними хохочет». Это — та самая раздвоенность, безжалостное изображение которой позднейшие исследователи назвали главным достижением «Адольфа» («Б. Констан первый показал в „Адольфе“ раздвоенность человеческой психики, соотношение сознательного и подсознательного, роль подавляемых чувств и разоблачил истинные побуждения человеческих действий»). Констану не было необходимости изучать эту раздвоенность на примере других людей, реальных либо вымышленных; он сам был, по выражению своего биографа, «виртуозом раздвоения. Он постоянно превращал собственную жизнь в зрелище и в предмет анализа для себя самого; постоянно обнажал — при этом не приводя в негодность — пружины своих поступков».