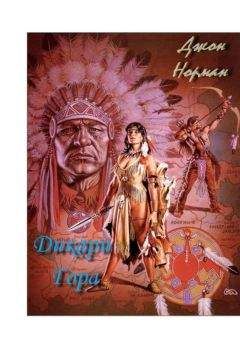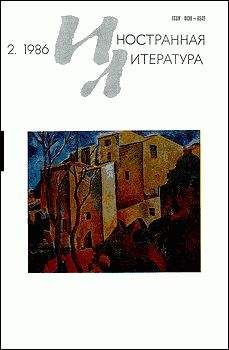Джон Норман - Дикари Гора
— Что же заставило вас?
— Учение говорит нам.
— Вы должны понять, что нам не нравится изгонять людей на смерть. Нам очень жалко поступать так. В случаях изгнания мы часто едим в тишине, и льём горькие слезы в нашу кашу.
— Я уверен, что это выглядит очень трогательно, — усмехнулся я, представив себе эту картину.
Тыква посмотрел вниз, в сторону девушки. Непосредственно на неё он не смотрел, но она знала, что стала объектом его внимания, пусть и косвенного.
— Научите меня своему Учению, — попросила она. — Я хочу стать Одинаковой.
— Замечательно, — обрадовался Тыква. Он даже было протянул руку, чтобы тронуть её, столь доволен он был, но внезапно, в ужасе отдёрнул руку назад. Он покраснел, на его лбу выступил пот.
— Превосходно, — загудели Ваниямпи все сразу, — Вы не пожалеете об этом.
— Вы полюбите быть Одинаковой. — Это — единственная цель бытия.
— Когда мы доберёмся до загона, Вы будете развязаны и должным образом одеты, — пообещал Тыква. — В одежде подходящей Ваниямпи, Вы оцените нас по своим прежним критериям, из предшествующей жизни, и поймёте какую честь, и уважение вам будут оказывать среди нас.
— Я буду нетерпеливо ожидать моего приема в загон, — пообещала девушка.
— Также, и мы будем приветствовать нового гражданина, — торжественно произнёс Тыква.
Он повернулся к остальным.
— Нам пора возвратиться к нашей работе. Ещё есть мусор, который надо собрать и обломки, которые надо сжечь.
Как только Ваниямпи удалились, я вернулся, к рассматриванию девушки.
— Они сумасшедшие! — Закричала она, извиваясь в ярме. — Безумцы!
— Возможно, — сказал я. — Я полагаю, что это — вопрос точки зрения.
— Точки зрения? — не поняла она.
— Если нормы вменяемости — общественные нормы, — объяснил я, — а по определению, норма нормальна.
— Даже если общество полностью оторвано от реальности? — спросила она.
— Да.
— Даже если они думают, что они все урты, или ящеры или облака?
— Я полагаю, что так, и в таком обществе тот, кто не думает, что он — урт, или, скажем, ящерица или облако, считался бы сумасшедшим.
— И были бы сумасшедшими?
— С той точки зрения.
— Это — нелепая точка зрения.
— Согласен.
— И я не принимаю этого, — решила девушка.
— Как и я, — согласился я с ней.
— Тот безумен, — сказала она, — кто верит ложным ценностям.
— Но все мы, несомненно, верим многим ложным ценностям, — заметил я, — Теоретически общество могло бы верить многочисленным ложным суждениям и тем не менее, в обычном смысле этого слова, рассматриваться как нормальное, даже если, во многих отношениях, это общество ошибочно.
— Что, если общество ошибается, и старается изо всех сил избегать исправлять свои ошибки, что, если оно отказывается исправить свои ошибки, даже в свете неопровержимых доказательств его ошибочности? — спросила девушка.
— Доказательства могут отрицаться, или им может даваться иное толкование, чтобы согласовать с существующей теорией. Я думаю, что это обычно — вопрос качества. Возможно, когда теория просто становится слишком архаичной, устаревшей и громоздкой, чтобы защититься, когда она становится просто нелепой и очевидно иррациональной, чтобы серьезно продолжить защищать её, вот тогда, если находится кто-то, кто всё ещё навязчиво отстаивает эту теорию, вот тогда можно было бы говорить о его здравомыслии. Но даже тогда, другие теории могли бы быть плодотворнее, чем такие радикальное упрямство или возведённая в закон иррациональность.
— Почему? — не поняла она.
— Из-за неопределенности понятия безумия, — попытался объяснить я, — и его часто неявная ссылка на статистические нормы. Например, человек, который верит, скажем, в магию, при условии, что его вера основана на том, что он живёт в обществе, которое верит в магию, он не будет считаться безумным. Точно так же такое общество, не будет, по всей вероятности, рассматриваться как безумное, хотя могло бы быть расценено как вводимое в заблуждение
— А что, если там действительно существуют такие вещи, как магия? — спросила девушка.
— Тогда это общество, просто было бы правильным.
— А что же с этими мужчинами, которые только что были здесь? Действительно ли они не сумасшедшие?
— Поосторожнее с выбором определений, я предполагаю, что мы определяем их здравомыслие или безумие, в зависимости от того, одобрили мы их взгляды или нет, но трудно получить удовлетворение из побед, которые достигнуты дешёвым средством тайного изменения абстрактной структуры.
— Я думаю, что они безумцы, сумасшедшие, — не выдержала она.
— По крайней мере, они ошибаются, — сказал я, осторожно, — и, во многих отношениях отличаются от нас.
Она вздрогнула.
— Большинством пагубных верований, — продолжал я, — не являются в действительности верованиями вообще, лучше назвать их псевдо-верования. Псевдо-вера не является уязвимой перед доказательствами, даже теоретически. Её безопасность от опровержения — результат её бессодержательности. Она не может быть опровергнута, ничего не говоря, ничего и не произведёшь, даже в теории. Такая вера не сильна, но пуста. В конечном счете, это не более чем набор слов, организованный в словесные формулы. Люди часто боятся исследовать свою природу. Они прячут их внутри себя вместе другими проблемами. Они боятся, что их опора — солома, они боятся, что их подпорки — тростники. Правда замалчивается, и юридически избегается. Это не человеческий разум. И что является самым замечательным? Кто знает, в какую сторону будет рубить меч правды? Кажется, некоторые люди лучше умрут за свои верования, чем согласятся проанализировать их. Мне кажется, что должно быть очень страшно, исследовать свою веру, раз так мало людей делают это. Конечно, иногда кто-то устаёт от запачканной кровью пустой болтовни. Сражения формул, которые никто не может вычислить и опровергнуть, и слишком часто решается кровью и железом. Как я отметил, некоторые люди, готовы умереть за их веру. Но, кажется даже большее число, готово убить за неё.
— Это не неизвестно для мужчин, бороться за ложные ценности, — заметила она.
— Это верно, — согласился я.
— Но, в конце концов, — сказала она, — я не думаю, что бои ведутся ради формул.
Я пристально посмотрел на неё.
— Они лишь штандарты и флаги, с которыми идут в сражение, — объяснила она, — стимулирующие толпу, в полезном для элиты направлении.
— Возможно, Ты права, — Вынужден был я согласиться. Я не знал. Человеческая мотивация слишком сложна. То, что она ответила, как ответила, и неважно, была ли она права или нет, напомнило мне, что она была агентом кюров. Такие люди обычно видят вещи с точки зрения женщин, золота и власти. Я усмехнулся, смотря на неё сверху вниз. Этот агент, раздетый и в ярме, теперь надёжно выведен из строя, и стоит передо мной на коленях. Она больше не была игроком в игре, она была теперь только призом.