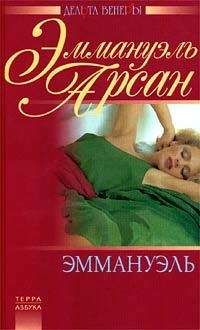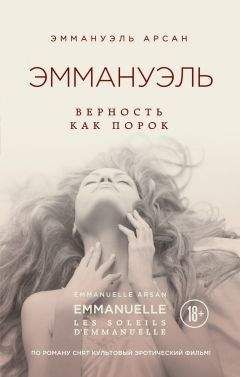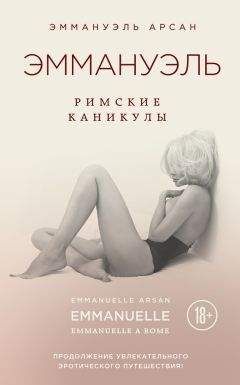Октав Мирбо - Дневник горничной
— Много ты выиграла, дурочка, удовлетворив свое любопытство? Еще погляди, еще поищи — в моем белье, в моих сундуках, в моей душе. Никогда ничего не узнаешь!..
Не хочу больше думать об этом, не хочу больше думать о Жозефе… У меня начинает болеть голова и мне кажется, что я сойду с ума… Вернусь к своим воспоминаниям…
По выходе из монастыря в Нельи я попала в контору для найма прислуги. Я уже давала себе слово никогда туда не обращаться. Но что поделаешь, очутившись на улице и не имея денег на кусок хлеба? Прежние подруги? Как же!.. Они даже не раскланиваются. Публикации в газетах?.. Слишком большие требуются для этого расходы, и в результате завязывается утомительная переписка… и вся эта канитель не стоит выеденного яйца… И, притом, для этого нужно иметь какие-либо наличные деньги, а двадцать франков, данные мне Клеклэ, живо растаяли в моих руках. Проституция?.. Прогуливаться по тротуару?.. Приводить к себе мужчин, не имеющих ни гроша в кармане?.. О, нет, нет!.. Для собственного удовольствия, сколько угодно… За деньги? Я не могу… не умею… меня всякий обманет… Я была вынуждена заложить кое-какие ценные безделушки, чтобы уплатить за квартиру и стол… Безработица роковым образом заставляет знакомиться с ростовщиками и эксплуататорами…
Ах, рекомендательные конторы, что эта за гнусные учреждения! За одну запись нужно заплатить десять су… В этих ужасных конторах предлагают только плохие места…. Теперь всякое ничтожество, всякая лавочница, которой грош цена, желает иметь служанок и корчит из себя графиню… Это просто смешно! А когда после споров, унизительных расследований и гнусного торга вы поступите к какой-нибудь алчной барыне, то должны платить в контору три процента в течение года… И если вы пробудете только десять дней на месте, — тем хуже для вас. Это не касается конторы, ее дело — получить свои денежки. Это ловкое мошенничество; в конторе знают, куда вас отправляют и знают, что вы скоро вернетесь… Мне пришлось как-то в течение четырех с половиной месяцев семь раз менять места… Проклятые учреждения, хуже каторги… И я должна была платить в контору три процента в течение семи лет, то есть — включая по десяти су за запись — больше девяноста франков. И ничего не получила, приходилось начинать сначала!.. Справедливо — ли это?.. Не чудовищное ли это воровство?..
Воровство?.. С какой стороны ни посмотри, иначе не назовешь. И, притом, как это всегда водится, имущие обкрадывают неимущих… Что делать?.. Возмущаешься, восстаешь и, в конце концов, приходишь к убеждению, что лучше быть обворованным, чем подыхать, как собака, на улице… Жизнь — ужасная гадость; это уже несомненная истина. Как жаль, что генерал Буланже потерпел неудачу!.. Он, кажется, сочувственно относился к служанкам…
Контора, в которую я имела глупость записаться, находится на улице Колизея, в глубине двора, на третьем этаже; дом мрачный и старый, похожий на дома, в которых живут рабочие. Узкая и крутая лестница, с грязными ступеньками и липкими перилами, воняет и наводит уныние. Я далеко не избалована, но вид подобной лестницы вызывает во мне тошноту, головокружение, и меня охватывает сумасшедшее желание удрать прочь… Надежды, которыми вы убаюкивали себя по дороге, исчезают, уничтожаемые тяжелым запахом и зрелищем омерзительных ступенек и потных стен, облепленных, как это невольно представляется, липкими мокрицами и холодными лягушками… Не понимаю, как шикарные дамы решаются заглядывать в эти вонючие берлоги… По правде сказать, они не очень-то брезгливы… Впрочем, теперь шикарные дамы ничем не брезгают!.. Они не согласятся пойти в убогое жилище, чтобы помочь каждому-нибудь бедняку, но в поисках служанки не остановятся ни перед чем…
Конторой заведывала госпожа Поллат-Дюран, высокая сорокапятилетняя женщина, с черными, слегка взбитыми волосами, спускающимися на виски; несмотря на свое жирное и страшно перетянутое тело, она еще сохраняла следы красоты и щеголяла величественной осанкой… Она была знатоком своего дела и загребала деньги. Одевалась просто и элегантно: черное шелковое платье, золотая цепочка, сверкающая на пышной груди, коричневый бархатный галстук. С своими бледными руками она казалась благородной и даже светской дамой. Любовником ее был господин Луи — фамилии его мы не знали, — какой-то ничтожный мелкий чиновник… Чудак, очень близорукий, с осторожными движениями, молчаливый, неловкий, в поношенном, коротком сером сюртуке… Печальный, боязливый, сгорбленный, несмотря на молодость, бедняга, вероятно, не был счастлив, но зато покорно нес свой крест… Он никогда не осмеливался заговорить с нами или даже взглянуть на нас: хозяйка ревновала… Когда он входил, с портфелем под мышкой, то ограничивался легким поклоном, и не оглядываясь, волоча слегка ногу, как тень исчезал в коридоре… Ему много приходилось работать, бедняге! По вечерам он писал деловые письма и проверял счетные книги своей любовницы.
Поллат-Дюран, в сущности, не было настоящее имя моей хозяйки. Эта звучная двойная фамилия досталась ей от двух любовников, умерших и завещавших ей некоторую сумму денег, благодаря которой она могла начать свое дело. Ее звали — Жозефина Кар. Как большинство своих коллег, она была раньше горничной. Это чувствовалось, впрочем, по ее степенным манерам, заимствованным у светских дам; и несмотря на золотую цепочку и черное шелковое платье, в ней проглядывало плебейское происхождение. С нами она была нахальна, но своим клиентам льстила, принимая, впрочем, в соображение их общественное положение и богатство.
— Ах, что за народ теперь, графиня! — говорила она жеманно… — Теперешние горничные — это девицы, которые ничего не хотят делать… Работать не любят, за нравственность и честность их нельзя поручиться… И таких, сколько угодно!.. Но женщин работящих, умеющих шить, знающих свое ремесло, таких нет… Ни у меня… и нигде…
Ее контора, однако, пользовалась известностью и у нее было много клиенток из квартала Елисейских Полей — по большей части иностранок и евреек…
С лестницы входишь в коридор, ведущий в гостиную, где восседает госпожа Поллат-Дюран в своем неизменном черном шелковом платье. Слева — обширная передняя, похожая на мрачную берлогу, заставленная скамейками и украшенная столом, покрытым красной полинявшей саржей. Передняя освещается сверху и сбоку: от гостиной ее отделяет стеклянная перегородка. Печальный сумеречный свет окутывает лица и предметы.
Мы приходили туда ежедневно, утром и после обеда, целой толпой — кухарки и горничные, садовники и лакеи, кучера и метрдотели. Мы рассказывали друг другу про свои беды, ругали господ, в ожидании необыкновенных сказочных мест. Некоторые приносили книги и газеты и с увлечением предавались чтению, — другие писали письма… Жужжание нашей болтовни то печальной, то веселой — прерывалось внезапным появлением госпожи Поллат-Дюран.