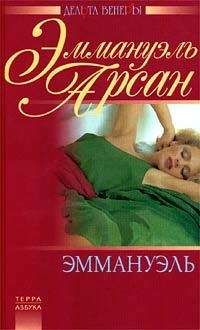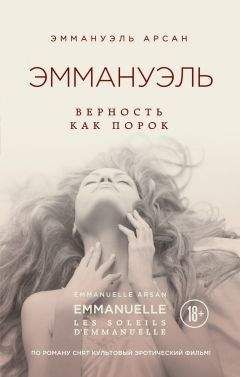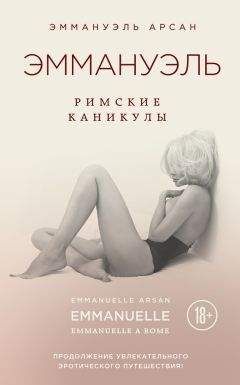Октав Мирбо - Дневник горничной
Она колеблется; потом разом выпаливает с нескрываемою гордостью:
— От барина…
Тут я чуть не лопнула со смеху…
Только этого и недоставало барину…
Марианна, думая, что я смеюсь от восторга, тоже начинает смеяться…
— Да… да… от барина!.. — повторяет она…
Но как могло случиться, что я ничего не заметила?.. Такой забавный эпизод проскользнул, если так можно выразиться, мимо моих глаз, и я ничего не заметила?.. Ничего не подозревала?.. Я осыпаю вопросами Марианну… И Марианна рассказывает с удовольствием, слегка важничая:
— Два месяца тому назад барин зашел в чулан, когда я перемывала посуду после завтрака. Вы тогда только что к нам поступили… Барин перед этим говорил о чем-то с вами на лестнице. Он размахивал руками… тяжело дышал… глаза у него были красные и выпученные… я думала, что его хватит удар… Не говоря ни слова, он бросился на меня и я сразу догадалась, чего он хочет… Вы понимаете: барин!.. Я не осмелилась защищаться… И, притом, здесь никого не видишь… Это меня удивило… но, все-таки, доставило удовольствие… Он теперь часто приходит… Милый мужчина… и такой ласковый…
— Верней, развратный… Правда, ведь, Марианна?
— Да… — вздыхает она с восхищенными взглядами… — И красавец!.. И вообще…
Ее жирное лицо продолжает глупо ухмыляться… И под расстегнутой голубой фуфайкой, запачканной жиром и углем, поднимается и опускается массивная грудь. Я спрашиваю:
— Значит, вы довольны?
— Да… я очень довольна… — отвечает она… — То есть… я была бы очень довольна, если бы знала наверное, что я не беременна… В мои годы… это было бы слишком тяжело!..
Я разубеждаю ее, как могу… она сопровождает каждое мое слово покачиванием головы… Потом прибавляет:
— Все равно… чтобы не тревожиться, я отправлюсь завтра к мадам Гуэн…
Я испытываю искреннее сострадание к этой женщине, такой невежественной и наивной… Ах, какая она несчастная и жалкая!.. Что-то с ней будет?.. Удивительная вещь: она ничуть не похорошела под влиянием любви… лицо ее не озарилось лучезарным блеском, который сладострастие придает даже самым некрасивым лицам… Она осталась такой же вульгарной и неуклюжей, как была. Все-таки, я рада, что способствовала этому счастью, оживившему немного ее жирное тело, так долго лишенное мужской ласки… Возбужденный разговором со мной, барин набросился на это жалкое существо… Я говорю ей участливо:
— Нужно остерегаться, Марианна… Если барыня вас застанет, будет ужасно…
— О, это невозможно!.. — восклицает она… — Барин приходит, когда барыни нет дома… Долго он не остается… лишь только насытится… уходит… Кроме того, в чулане есть дверь, которая выходит на дворик, а калитка дворика выходит в переулок. При малейшем шуме барин может незаметно улизнуть. И, наконец… если уже на то пошло?.. Если барыня нас застанет… Ну, что ж?..
— Барыня вас выгонит, моя бедная Марианна…
— Ну, что ж?.. — повторяет она, покачивая головой, точно старая медведица.
Воцарилось тяжелое молчание; я мысленно представляю себе их обоих — обоих вместе, предающихся любви в чулане…
— Барин нежен с вами?
— Понятно, нежен…
— Говорит он вам ласковые слова? Что он вам говорит?
— Барин приходит… сейчас же накидывается на меня… и говорит: «ах, черт возьми!.. ах, черт возьми!» И тяжело дышит… Ах, он такой дуся!..
Я ушла от нее с тяжелым сердцем… Теперь я больше не смеюсь над ней, никогда больше не буду смеяться над Марианной; я жалею ее и испытываю к ней искреннее и почти скорбное сострадание.
Но я хорошо понимаю, что больше всех мне жалко самоё себя. Когда я вернулась в свою комнату, меня охватили стыд и отчаянье… Никогда не нужно думать о любви. Любовь, в сущности — такая печальная вещь. Что от нее остается? Насмешки, горечь, или же ровнехонько ничего… Что осталось, например, от моей любви к г. Жану, портрет которого красуется на камине в красной плюшевой рамке? Ничего, кроме сознания, что я любила бессердечного, тщеславного нахала. И как я только могла любить этого красивого пошляка, — его бледное лицо, его черные бачки, его безукоризненно правильный пробор?.. Этот портрет меня раздражает… Мне противно смотреть на бессмысленные глаза этого наглеца и подхалима. О, нет!.. Я брошу его на дно моего сундука, в одну кучу с другими портретами, и пусть он лежит там до того дня, когда я спалю на веселом огне мое ненавистное прошлое и обращу его в пепел!
Я думаю о Жозефе… Где он теперь? Что он делает? Думает ли он обо мне? Вероятно сидит в кафе. Наблюдает, спорит, соображает, размышляет о том эффекте, который я буду производить, сидя за конторкой, возле зеркала, окруженная сверкающими рюмками и разноцветными бутылками. Я хотела бы знать Шербург, его улицы, площади, пристань, порт, чтобы точнее представить себе Жозефа, блуждающего по городу и покоряющего его себе так же, как он покорил меня. Я ворочаюсь на постели в лихорадочном жару. Мысли мои перескакивают от Районского леса к Шербургу… от трупа Клары к кафе… После мучительной бессонницы, я, наконец, засыпаю. Передо мной мелькает грубоватый, суровый облик Жозефа, появляющийся откуда-то издалека, из мрака где колышутся белые и красные мачты.
Сегодня — в воскресенье, после обеда — я решила пойти в комнату Жозефа. Меня сопровождают две недоумевающие собаки; они, по-видимому, хотят спросить у меня, где Жозеф… Узкая железная кровать, мебель некрашеного дерева: большой шкаф, низенький комод, стол, два стула, вешалка, задернутая зеленым коленкором… Но хотя комната и не роскошна, она все же очень опрятна и чиста. Походит на целомудренно-суровую келью монаха. На выбеленных стенах висят портреты Дерулэда и генерала Мерсье, изображения святых и Божией Матери, Поклонение волхвов, Избиение младенцев, Рай… Над постелью — черное деревянное распятие, украшенное буксовой веткой…
Хотя это и неделикатно, но я не могла противиться неудержимому желанию обшарить комнату. Меня мучила смутная надежда открыть какие-либо тайны Жозефа. Но в комнате не оказалось ничего таинственного. Это была комната человека, не имеющего никаких тайн, живущего чистой, простой жизнью, без всяких осложнений и авантюр. В замочных скважинах ящиков торчали ключи и ни один ящик не был заперт. На столе — пакетики с семенами и книга «Хороший садовник»… на камине — молитвенник с пожелтевшими страницами и записная книжка с рецептами для приготовления паркетной мази и состава никотина и железного купороса… Нигде ни одного письма, ни одной счетной книги. Ни следа какой-либо корреспонденции — деловой, политической, семейной, любовной… В комоде вместе с изношенной обувью и негодными наконечниками леек хранится куча брошюр и номеров газеты «Libre Parole». Под постелью — западни для крыс и сурков. Я до всего дотронулась и все обшарила — одежду, белье, тюфяки, ящики… Ровнехонько ничего!.. В шкафу все лежало в том же порядке, в каком я оставила его восемь дней тому назад, производя уборку в присутствии Жозефа… Неужели у Жозефа нет никаких тайн?.. Неужели нет никаких безделушек, характеризующих его вкусы, наклонности, тайные желания?.. Ах!.. Я вытаскиваю из ящика стола коробку из-под сигар, обернутую в бумагу и тщательно обвязанную веревочкой… Я с трудом развязываю ее, раскрываю… глазам моим представляется пять образков, серебряный крестик, красные четки — все это заботливо разложено на вате… Повсюду религия!.. Кончив свой обыск, я ухожу из комнаты с расстроенными нервами: я не нашла того, чего искала, и ничего не узнала. Жозеф заражает все окружающее своей непроницаемостью. Все его вещи немы, как его губы, загадочны, как его глаза и лоб… Весь вечер я явственно видела перед собой таинственное, насмешливое и угрюмое лицо Жозефа. И мне казалось, что я слышу: