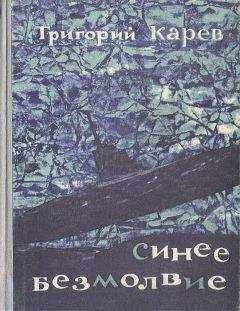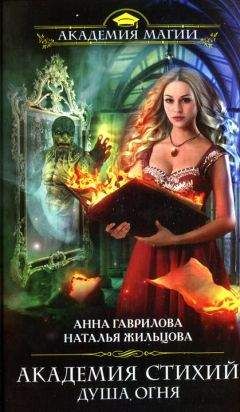А-Викинг - Долгий сон
— Нет! Ее! Накажи ее, деда! Высеки ее розгами!
Не увидела (руки-то за головой), а почувствовала, как в ее ладони оказался пучок прутиков:
— Ножки пошире… А теперь сама и наказывай.
Натка привстала на локте, взмахнула правой рукой и неожиданно зло, сильно, стегнула ивовой лозой по лобку. Тонкие концы коротких, но очень гибких прутиков сочно впились в голые половые губы. Тяжело, словно рожая, замычала девушка и хлестнула снова, потом снова и снова. Ее сил хватило на пять ударов: выпустив из пальцев иву, накрыла ладонями груди, стиснула соски и тяжелым грудным голосом скорее простонала, чем выговорила:
— Сам… Сильней… Ну же, секи ее!
Никанорыч неторопливо, чтобы дать уйти первой волне резкой боли, провел мыльными ладонями по раскинутым ляжкам, по пострадавшему местечку, по втянутому животу и взяв под коленями, поднял ее раскинутые ноги вверх. Согнул, молча положил ее ладони под коленки — она поняла, зажала ноги, все шире и беззащитнее разводя их в стороны.
— Не смотри! — строго предупредил девушку и та послушно зажмурилась, успев заметить, как он встал у торца банной лежанки, оказавшись прямо между ее ногами. Вместо боли вдруг с изумлением ощутила на раскрытых и совершенно мокрых половых губах щекотное касание жестких усов:
— Ну, уж прости старика, голышка… помучайся…
— Пусть… Пусть помучается! — как о чем-то о совершенно чужом, подумала Натка и длинно, прерывисто простонала, как удар молнии приняв неожиданный и крепкий поцелуй: прямо в раскрытую щель!
— Бесстыжая голышка… — снова скорей угадала, чем услышала слова Никанорыча — Не мучай Натку, а то накажу…
— Накажи! — уже не говорит, а молит девушка.
Плеснул водой из ковшика, чтобы еще более гладким стало бесстыдное место, выпрямился, почти не глядя выбрал из кадушки прут: не короткую ивушку, которой стегала себя Натка, а длинный, хорошо промоченный, красноватой вербы. Такими розгами на заду полосы рисовать — и то девка ужом корчится, крик глотает, а тут самое нежное да сокровенное!
Взмахнул, примерился, еще раз сам себе шепнул оправдательное — «бесстыдница!» и размашисто высек чуть наискось вспухших складок.
От такой боли Натка даже не почувствовала… боли! Это сразу перешло какой-то порог восприятия, она открыла глаза и словно со стороны, внимательно и напряженно, смотрела на происходящее: вот вскидывается вверх лоснящийся гибкий прут, вот он неслышно свистит, глубоко впивается в очерченный валиками половых губ овал, корчатся в напряжении упрямо раздвинутые ноги какой-то голой девки и волна судорог проходит по всему ее телу, сотрясая даже груди. Еще раз поднимается розга, рука почти не видного сейчас человека сдвигается чуть в сторону, и между ног этой позорно выставленной негодницы вскипает еще одна резкая полоска, перечеркивая ее голую щель крест-накрест.
«За что так секут девушку? Поверните ее на живот, стегайте ее попу и спину… Не надо стегать прутьями ее складочки, ей же очень больно! Почему она так лежит? Что она сделала? Ей стыдно! Ей больно! Я же вижу, как плотно врезается прут, как он липнет к ее голому местечку, как нехотя отлипает, оставляя черный след боли… Не секите ее между ног, ей больно!»
И только сейчас она услышала это слово, которое казалось чем-то чужим и посторонним. Оказывается, это было ее слово, это она его не кричала, нет — воем выла при хлесте розги:
— Бо-о-ольно!!!
Никанорыч морщился, словно больно было и ему, но отмахивал розгу повыше, ладней прицеливался и снова вписывал прут между дергающихся ног девушки. Старался не попадать по рубцам, но Натка мешала ему, неудержимо дергая задом, казалось, во все стороны сразу. Но держала, добела вцепив пальцы, свои ноги вверху и в стороны. В его глазах мелькнуло уважение, но жалеть ее он не мог, не имел права…
— Ну, сдавайся, своди ляжки, глупенькая! Ты же знаешь, что порка по прелестям — без счета, пока не закроешься! Уже губок твоих сладких не видно под резкими отметинами рубцов, уже щелочка багровеет от муки, уже голосок все слабей и хрипит… Сдвигай ляжки, негодница-любовница! Я тебя все-таки переупрямлю…
И розга сечет уже не наискось, отдавая часть боли всей промежности и ляжкам, а точно вдоль распахнутой раковинки, злым концом впиваясь в налитый страстью клитор…
Словно лопнуло что-то: капелька алой крови на конце прута и брызгами — любовный сок бешеного, длинного оргазма, от которого девку сбросило с топчана. Корчась на мокром банном полу, зажала руками лоно и вперемешку, как в бреду, вскрикивала:
— Больно! Сладко! Улетаю, деда! — и низкое, почти звериной рычание в судорогах дикой страсти…
Ей и не пришлось просить, чтобы из бани в дом он отнес ее на руках — он сам поднял Натку, словно драгоценность, шептал в ухо ласковые успокаивающие слова, уложил не на узкую кровать в горнице, а на пуховик в спальне, обложил живот и ляжки теплыми компрессами на травах. Не поленился подать бодрящую рюмку своей фирменной медовухи и, когда высохли озера ее слез (смешных и странных слез — про боль и сладость она шептала ему, словно заведенная), когда утихла волна мучительного огня между ног, испытующе заглянул в глаза, до самого дна достал:
— А вот если сейчас, без ласки и без разогрева, чтобы не срамное место, а душа силы давала и страх не пускала я снова скажу ножки раскинуть и снова — розгами по голенькой?
— Я буду кричать и любить! Нет, я буду просто любить… Тебя и твою розгу!
— Ну-ну, не заводись, девонька… лишку будет. А если уж совсем по-честному, то ты уж прости меня, но не все это, однако…
— Говори, деда. Сегодня моя ночь!
— Полежи чуток, отдохни, а я пока легкую плеточку в травах вскипячу, разварю помягче хвосты-ремешки. Потом позову, рюмочку за здоровье выпьем — и еще разок полежишь на лавочке. Передком вверх: потому как надо и грудки твои ладненькие посечь…
x x xНочь продолжалась.
2001 г.
Чужая лавка
Мария с неприкрытой бабьей завистью оглядела сочное, налитое тело девки:
— Ну ровно как кошка сытая… ишь, потягушки устроила…
Катька довольно усмехнулась и изогнулась еще раз, блаженствуя в жаркой истоме хорошо протопленной баньки. Даже шутливо промяукала, «царапанув» ногтями стенку пахнущего квасом и мятой предбанника. А Мария, едва сдержав желание зло щипнуть тугие шары грудей с вишневыми сосками, деланно-весело подмигнула:
— Иван-то глубоко засаживает?
Катька густо покраснела и обиженно отвернулась:
— Да ну… удумаешь тоже… не было ничего такого!
Мария въедливо прищурилась: