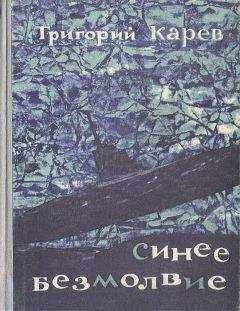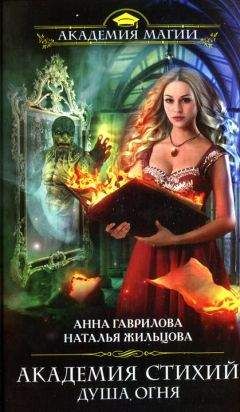А-Викинг - Долгий сон
— Значится, ничего нам пока непонятно, — с сожалением сказал Никанорыч. — Значитца, и вправду пороть посильней… Терпи, девка, да заодно думай, за что порят! — отмахнул с плеча и снова врезал тяжелым ремнем по голому заду.
Ремень чуть не гудел, со всей силы впечатываясь в голое тело, по уже вспухшим полосам, снова и снова. Ягодицы сплошь покрылись широкими следами строгой порки, несколько раз подряд безжалостные удары чертили ляжки, и снова извивалась под ударами спина… От жаркой и тяжелой боли Натка стала подниматься на животе, вскидывать напряженные ноги, туго сжимать исхлестанные половинки и все громче постанывать, не в силах удержать голос под старым «служивым». Ее тело заблестело от пота, руки пару раз оторвались от ножек верстака, словно она собиралась прикрыть ими попу. Прикрылась бы, но не смела: такой грех требовал самой суровой кары: («Под поркой руками закрываться все одно, что в брачную ночку ляжки сжимать!). Никанорыч видел, что девку «проняло» до пота и снова опустил ремень. Не только ради передышки — иной раз при порке отдыхать только во вред наказанной.
— Снова отвечай: за что порка?
— Долг… — уже не поднимая головы, сдавленно ответила девушка.
— Сколько был должок-то?
— Пятнадцать.
— А сколько уж сейчас всыпано?
— Тридцать.
— Так за что порота?
— За то, что в прошлый раз не стерпела!
— Ну, наконец-то! Запомни, внучка: долги отдавать — это одно, это не главное. Главное — в них не лезть! Хоть в деньгах, хоть в жизни: сдохни, но в долг не бери! Вот за то и порол! Ну, отдохнула маленько? Теперь не обессудь: чтоб памятно, надо больно. Придется нынешний урок запечатать!
Натка откровенно вздрогнула всем телом, но после секундного замешательства твердо проговорила:
— Да!
— Голосок не сдерживай, при печатях в том греха нет. И задничек не тискай, не то глубоко порвет… Ну, сама знаешь, не впервой…
— Да, — в голосе Натки не было страха, только напряжение. Оно было и в теле, на что Никанорыч еще раз заметил:
— Распусти и зад, и ляжки… Студнем лежи, девка, — с этими словами дед перехватил ремень по-новому.
Теперь хвост спрятался в кулаке, а внизу качнулась тяжелая медная пряжка. Полшага назад, мелькает короткая тень, по высокой дуге чертит воздух взлетевшая пряжка и мучительный вскрик девушки:
— Бо-ольно!
На левой половинке мгновенно вспухает четкий квадрат «печати», наливается темно-багровым, а Натка торопливо, взахлеб, со слезами приговаривает сама себе:
— Боженьки, как больно…
Почти без паузы в сарае разносится отчаянный голос поротой:
— А-а-а-а!!!
Мотая головой, изо всех сил цепляясь за верстак и сжав полыхающий болью зад, лепечет девчонка:
— Дедуля, больно мне, больно…
Дед сочувственно вздыхает и снова отмахивает назад руку. На обоих полушариях голого зада, красного от порки, полыхают огнем две печати. Натка знает: святое число будет семь, и придется вытерпеть все до конца. Но это же для науки, для хорошего урока, для ее же пользы, правда?
Еще два отчаянных крика, еще два пылающих квадрата на попе. Словно со стороны видит свою порку Натка: вот вскинулся ремень, качнулась жестокая пряжка, и летит, медленно-медленно летит вниз, касается тела, впивается в попу, прошибая ее насквозь, до верстака, ломая все тело и выбивая из груди жалобный вопль…
Шесть! На верху бедер, посреди ягодиц, внизу, у самых ляжек… Спину бить нельзя, пряжка не шутки и одуревшая от боли Натка, как механическая кукла, встает в последнюю при «печатях» позу: высоко вверх поднимает воющий от боли зад, грудью на верстаке, а ладонями…. Да, ладошками сильно-сильно раскрывает половинки, всему свету выставляя голое и позорное…
Неужели и сюда, в нежное и горячее, мокрое то ли от страсти, то ли от страха, потаенное и позорно голое местечко, вопьется свистящая пряжка?
Нет, все куда хуже. Заслуженно, на долгую память и от того еще стыднее. Лучше бы пряжкой, но… Никанорыч склонился над бесстыдно выставленным телом, пожевал губами и сочно, коротко, обильно плюнул…
Замычав, словно от жуткой боли, Натка судорожно сжала ляжки, прижалась животом к верстаку, по-детски всхлипнула. Дед несильно пошлепал ладонью по избитой попе:
— Ну будет, будет… Стыд не дым, глаза не выест. Вставай, внучка, должок прощен!
Натка подняла от верстака заплаканное лицо (всю порку терпела, а под пряжкой не сдержались слезы) и вдруг попросила:
— Деда, отнеси меня в дом… На руках…
Хмыкнул, усмехнулся в густые усы и согласно кивнул. Принял на руки, даже не пошатнувшись, прижал к себе как ребенка и понес в дом: голую, послушную, горячую то ли от порки, то ли от страсти. И давно забытой музыкой слушал ее сбивчивый шепот, скорее читал по губам, уткнувшимся в его грудь:
— Я твоя… Я не могу без тебя…
x x xВ доме, под мазями и травами, укутанная в широкое мокрое полотенце, Натка уснула. Спала нервно, то и дело вздрагивая — наверное, ей снился ремень, снилась боль и уроки в сарае. Или мечталось о чем-то?
Но пока она спит, в прохладных сенях дед меряет розги. Чтоб ровные, одна к одной, чтобы гибкой лозой под соленым прутом вилось девичье тело. А как же иначе — не помучишь, не научишь, три дня Яблочного спаса — это же сколько уроков преподать надобно!
Просыпайся, Натка!
2002 г.
Лекарство от ревности
— Я что тебя, третий раз звать должен? — крупная фигура пасечника Никанорыча закрыла тенью грядку, на которой копалась Натка.
— Иду. — В тон ему, так же недовольно и сердито, проворчала девушка. Уже с утра она всячески старалась выразить свое «недовольство, перерастающее в негодование».
Ларчик открывался предельно просто: ни с того ни сего, часов в девять, на пасеке появилась крепкотелая молодуха лет тридцати, чуть ли не с порога заявившая какие-то особые права на деда Никанорыча. То в щечку чмокнет, то плечики под объятия подставит, то в нужное время крутым бедром качнет: в общем, женскому глазу азбука понятная.
Приехала Натка вчера очень поздно, на пасеку добралась чуть не в первом часу, и потому никаких «воспитательных мероприятий» Никанорыч проводить не стал. Может, от усталости, может, по каким другим причинам, но покаяние Натки в грехах выслушал совершенно спокойно и ровно, сказав лишь:
— Утречком и разберемся. Отдыхай пока, шалунья…
А утречком приперлась эта самая Аннушка: вот уже время к пяти, а она все еще изображает пятое колесо в телеге. Кто она такая, что нужно от деда, почему трется возле него как привязанная — ни один вопрос из гордости Натка не задавала. Но и ответов сама найти не могла, что бесило еще больше. Демонстративно ушла на огород, так же демонстративно отказалась «похлебать окрошки», а ближе к обеду прополку грядок вела в купальнике: том самом, который терпеть не мог дед: «Это чего за три веревочки на сиськах и письке? Позорище бесстыжее, а не одежка…».