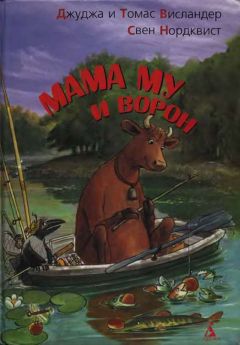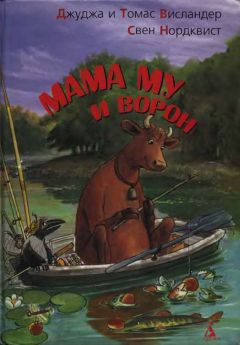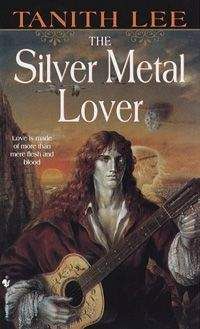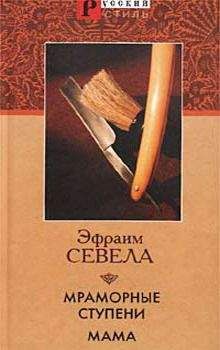Сол Стейн - Другие люди
— Бранденбургская симфония, — определила Франсина.
— Какая?
— Точно не скажу.
— Я тоже не знаю.
— Вы очень вкусно накормили меня, благодарю.
— Майкл — милый человек. Спасибо вам за чудесный вечер.
Сидя в машине, мы слушали Баха. И свои мысли. Хотелось бы мне знать, о чем думает она.
— Странно это, — не выдержала она. — Сидишь привязанный и никуда не едешь.
— Отвезти вас к вашей машине?
— За ночь с ней ничего не случится. Глупо давать такой крюк. Я ночую у родителей. Утром мама отвезет меня туда, после того как посадит отца на поезд.
— То есть вы хотите, чтобы я отвез вас к дому ваших родителей?
— Я бы осталась в своей квартире, если б у меня был вооруженный охранник.
— Оружия у меня нет.
— Неправда.
— Вы любите играть словами.
— Да. Как и вы.
— Похоже на церемонию бракосочетания.
— Видите, вы тоже любите эту игру. Вы никогда не подумывали о женитьбе?
— Однажды, в молодости, когда сделать аборт было трудно и опасно.
— И чем все закончилось?
— Она встретила другого парня, они куда-то уехали и поженились.
— То есть у вас где-то есть ребенок?
— В этом я совсем не уверен.
— Разве вам это безразлично?
Я завел двигатель.
— Вы нарастили себе толстую кожу.
— Зато я не мерзну холодными вечерами.
Она подняла руку, словно хотела коснуться меня.
— За личиной адвоката, которую вы носите, возможно, прячется хороший человек.
— Я в этом сомневаюсь, — и я выключил радио.
— Пожалуйста, оставьте музыку.
Вновь зазвучала музыка, только куда громче. Наверное, я вел себя глупо.
— Вы знаете, где живут мои родители?
— Вам придется показывать дорогу.
— Когда мы приедем, вы зайдете со мной в дом? — на этот раз она-таки коснулась меня, на какое-то мгновение.
— Едва ли это будет уместно. А может, сначала заедем ко мне? Выпить по рюмочке?
— Я не ханжа, — ответила Франсина, — но я еще от этого не отошла.
— От чего?
Внезапно она рассердилась.
— От того, что послужило причиной нашего знакомства.
— Козлак, — кивнул я.
— Да.
— И теперь вы злы на всех мужчин?
— В некотором роде.
— Справедливо ли это?
— Дело не в справедливости.
— Вы хотите сказать, что, если бы не случившееся, вы могли бы поехать ко мне сегодня?
— Могла.
Победно гремели звуки симфонии Баха.
— Никогда не знаешь, чего от вас ждать, Франсина. Иногда вы очень самоуверенная, а иной раз…
— Что?
— Такая ранимая.
— Совершенно верно. Это я. Самоуверенная и ранимая. Вы думаете, эти качества не сочетаются?
— Я знаю, что сочетаются.
— Вы тоже бываете ранимы, адвокат?
— Когда?
— Сейчас.
Я рванул «мерседес» с места излишне быстро, в визге шин выехал с автостоянки на дорогу.
— С чего это вы так торопитесь?
Я не ответил.
— Вы боитесь своих чувств? — после паузы спросила она.
— А вы нет?
— У вас злость в голосе.
— Я не хотел, чтобы она слышалась.
Я чуть снизил скорость. В точности выполнял ее указания. Когда мы свернули на подъездную дорожку к дому ее родителей, я почувствовал, как навалилась усталость. В холле горел свет.
— Вы хотите поскорее уехать? — спросила она.
Руки мои вцепились в руль.
Она вышла из машины. Я развернулся до того, как ей открыли дверь.
Умчался я, как после любовной ссоры, а ведь мы даже не были любовниками.
Глава 13
Кох
Я думал о фамилии Томасси. Никогда такой не слышал. Джорджем мог быть кто угодно. Георг, Джорджио, Жорж, Георгий, Джорджес. В Англии королей звали Георгами. Джорджи встречались во всех континентах. В тридцатые годы, будь Томасси актером, как бы назвали его киношники? Джордж Томас? Это теперь они сохраняют настоящие фамилии. Джордж Сигал. Украшают бамперы наклейками с иностранными флагами. Мои предки приехали из других стран, чем и гордятся, бросая вызов миру англосаксов, чьи дочери шныряют меж греков, итальянцев, евреев, кем угодно, в поисках необычных генов. Великий Боже, Ты манипулируешь нами, исходя из какого-то плана, цель которого дать нам нового еврейского Младенца, спрятанного в просе шиксой[14] высокого происхождения. В Сикстинской капелле всегда толчея. Ученые приводят детей посмотреть на Бога и Адама. Они смеются? Они говорят, что это период расцвета живописи? Не говорят? Они объяты благоговейным трепетом.
Гюнтер, сказала бы Марта, будь она жива, ты готов объявить себя неудачником. Ты все еще меряешь себя критериями своей матери: иди в мир и прославься в нем, если тебе в голову пришли интересные мысли, запиши их, опубликуй статью, даже книгу, поделись ими с людьми. Она требовала успеха, дабы имя, которое она дала своему сыну, узнавали. Гюнтер, сказала бы Марта, допустимо быть дилетантом, если тебя это устраивает, нет беды в том, что ты покинешь мир, не оставив взамен ни внуков, ни книг. Достаточно просто жить. Марта, сердце мое плачет, мне так хочется верить тебе! Не моя мать подзуживает меня сейчас, я сам говорю себе, что мне шестьдесят и в моем распоряжении не так уж много времени, чтобы оставить после себя след.
Таким вот я предавался размышлениям, когда в дверь позвонили, и я пошел встречать Томасси. Я не хочу принимать его в кабинете, где беседую со своими пациентами. Поэтому предлагаю ему сесть в удобное кресло в гостиной. Он смотрит на меня, я — на него, два представителя одного животного вида, но разных пород, живущих в одном лесу, но встретившихся впервые.
Ему, я вижу, чуть больше сорока. Полное отсутствие акцента, то есть он или родился в Америке, или приехал до того, как ему исполнилось двенадцать. Похож на грека, но гораздо выше ростом, в движениях его чувствуется сила, такому лицу я могу только позавидовать, это человек, который знает, как постоять за себя.
— Сколько у нас времени? — спрашивает он.
— У вас — лет двадцать пять, у меня — десять.
Лишь секунда требуется ему, чтобы понять, что я веду отсчет от сорока лет, и он смеется.
— У вас хороший смех, — говорю я.
— По сравнению с каким?
— С плохим смехом, призванным показать, что смеющийся презирает вас или сказанное вами. Хороший смех — быстрая, естественная реакция, внешнее проявление радости, веселья. У вас хороший смех.
— Благодарю, — кивнул Томасси. — Мы привыкли к тому, что прием у психоаналитика длится пятьдесят минут. Мне этого времени может не хватить. У меня к вам много вопросов.
— Я в полном вашем распоряжении. Вы сами никогда не обращались к психоаналитику?