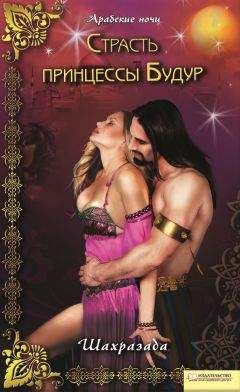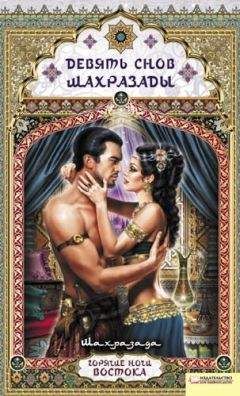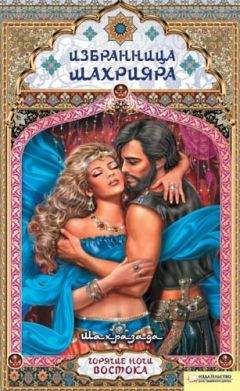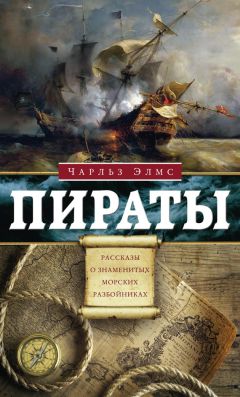Доминик Ногез - Черная любовь
Немного позднее, когда я увиделся с мартиниканской официанткой и та сообщила мне, похоже не думая о боли, которую может мне причинить, что Летиция «сейчас с японцем, который говорит по-французски», эпизодическим клиентом кафе, «он и за мной несколько раз пытался приударить», я почувствовал приступ холодного бешенства, я представил себе — воображая сцену ее возвращения, увы! все более и более маловероятного, — что я плюну ей в лицо, дам пощечину, повалю на землю и изобью. Мне даже пришлось взяться за блокнот, в котором я в самые невыносимые моменты начинал яростно царапать строчки, и вынести ей смертный приговор — реакция скорее литературная, чем действительно продуманная, мне было бы невыносимо трудно перейти к действию, я в жизни и мухи не обидел.
И все же мои чувства не были столь жестоки. Я забыл о главном — о нежности. Смешанные боль и нежность — как это выразить? Нежная боль? Страдание глухое и благодетельное, колющая боль, как при стенокардии, долгие минуты, когда сознание погружается в чуткий сон между эйфорией и прострацией, когда злость постепенно уступает место огромной нежности, мечтам, в которых все — свершается доверчиво и пылко, и в невыразимости бесконечной любви. В такие минуты я был готов все простить, даже умолять на коленях.
Уже не помню, что было потом. Кажется, девушка с Мартиники исчезла в свою очередь. Да, точно — она вернулась в Париж с французом, который в нее влюбился. К счастью, оставалось «Кафе де Пари». На всякий случай я оставил кассирше, которая раза два видела Летицию, номер телефона гостиницы. Я часто приходил туда, и однажды она сказала. — «Ну, наконец, она зашла, я дала ей ваш номер». Я бегом вернулся к себе в комнату и целый день ждал ее звонка. Но нет, она не позвонила, ни тогда, ни в следующие дни. Позднее я ухватился за деталь, которую вскользь упомянула девушка с Мартиники в последний раз, когда я ее видел: «По-моему, ее друг — архитектор, и живет он на Ётсуя Сансоме».
Я попросил написать мне три иероглифа слова кенчикука — «архитектор» — и гулял от дома к дому вокруг перекрестка Синдзуку Дори и Гаен Хигаси Дори. Никакого результата, кроме стыда, что меня примут за шпиона-неудачника. Я ничего не понимал — она оставила мне все свои вещи, свой паспорт, свой билет на самолет: придется ей проявиться, если она хочет вернуться в Париж! Но может быть, она не хотела возвращаться, может быть, она нашла свое счастье в Японии…
Наконец она позвонила. Я уже не ждал этого. За три дня до отъезда! Очень короткий разговор, ни слова извинений или объяснений. Она сказала: «Никуда не уходи, я сейчас приду». Я отвечал спокойно, как будто мы расстались только вчера». Наверное, от удивления. Я столько часов и дней провел, подготавливая каждое слово, которое скажу, если она мне позвонит, и вот она позвонила, а я только и нашел сказать, что: «Да, здравствуй, я по такому-то адресу, комната номер такой-то». Она все же добавила: «Я все объясню».
Не помню уже, что она мне рассказала, объяснила ли она мне что-то вообще. Помню только, что дрожал, ожидая ее, возможно, от опасения (а вдруг она передумает! Вдруг она не придет!), но главное от радости. И… не знаю, могу ли я это сказать… у меня стояло. У меня стояло как никогда, только от мысли, что скоро я снова смогу прижать к себе это тело… Это тело, молодое и горячее, так сильно любимое. И я уже не помню, как именно все произошло, что мы сказали и не сказали друг другу. Помню только это безумное желание, и еще слезы. Я заплакал и она тоже, кажется. Мы занимались любовью и плакали. Вот что остается у меня в памяти: потрясающая эрекция и слезы.
Летиция, любимая моя Лэ — потерянная, обретенная и снова потерянная…
XII
Все же были и счастливые дни. Хорошее ведь быстро забывается. Любовное наслаждение легко, и легкость его улетает. Был день, когда она сказала мне: «Ты не такой, как все», и дни, когда она говорила мне, как будто бы сравнивала в уме с чередой былых или нынешних соперников: «Как мне хорошо с тобой!» Был день, когда, чтобы отметить шестой месяц нашей связи, она подарила мне «Опыты» Монтеня (у меня уже было три экземпляра, но на этот раз речь шла об издании Кост 1725 года, она заняла денег у матери). Была та знойная августовская ночь, когда она разбудила меня, умоляя сейчас же пойти с ней на мост Искусств, чтобы заняться любовью под звездами, и мы почти так и поступили. Был тот день, когда она подвернула ногу в Винсенском лесу, и мы пробежали метров пятьсот по тропе, заливаясь безумным хохотом; она уцепилась за мою шею, хромая на одну ногу, а я для смеха хромал на другую. Был двенадцатый удар часов в полночь на Новый год — она увенчала меня омелой, когда я уже ее раздевал. Были выходные в Довиле… Была эта поездка в Ним, когда к пяти часам, после сиесты, у подножья лестницы собора Святой Троицы на Холме, рядом с цветочным прилавком, низким и взволнованным голосом она призналась мне в любви, объявив, что судьбы наши связаны до самой смерти. Была ночь в Болонье, когда мы только что приехали на машине, устали и нам хотелось пить, — мы пили ламбруско, игристое красное вино Модены, в ресторане «Диана», виа Индипенденца, и она была серьезна и немного бледна, в спальне простыни пахли душистой геранью, и на ее лице больше не было той улыбки, которая всегда, казалось, судит меня; как это редко бывало, я смог с наслаждением оставить всякую бдительность, эту сковывающую заботу о том, что она подумает, один из немногих раз, когда я подумал «мы», просто мы, только мы, единое существо, и нечего было думать, нечего чувствовать, кроме этого, наша кожа, тело, лицо — едино, мы не были больше ни в настоящем, ни в прошлом, мы плыли, возможно, в будущем, легкие, умиротворенные — над временем.
Над временем, но не вне его, как мне часто казалось, когда я был с ней. Я хочу рассказать об этой потери чувства настоящего момента, которую я так болезненно ощущал, когда мы занимались любовью. Как будто это счастье было нереально и не самодостаточно. Я так желал ее, рисовал себе в воображении с таким жаром и иногда так долго, что, когда это наконец происходило, это казалось не более реальным, чем предшествующие лихорадочные предчувствия. К этому прибавлялось сознание хрупкости и эфемерности моего удовольствия, боязнь следующей минуты, этого столь близкого момента, когда счастье пройдет. Как зараза, в меня проникало болезненное чувство, что это наслаждение только что закончилось, что оно уже состоялось (чтобы выразить это, надо бы изобрести новое грамматическое наклонение, помесь изъявительного и условного, что-то подобное нереальному наклонению близкого будущего — время «это прошло» в самом сердце времени «это сейчас будет»).