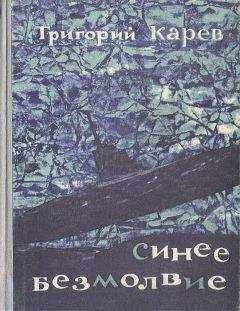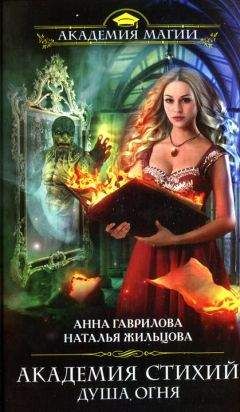А-Викинг - Долгий сон
— Она в верном домострое толк понимает. Это когда не дуром, а по-отечески… Вот потому и помогла…
Молча слушавший вопрос-ответ Евгений Венедиктович аж крякнул, зашарив в поисках трубки и про себя решил — уж кто-кто, а эта девка непременно попадет в его дом.
Так оно и вышло.
Однако зачем нам Настасья? Оставим ее в работе над Машенькой и вернемся к персонажу, который уже сыграл в нашей истории некоторую роль и явно намерен сыграть еще большую…
x x xИтак, она звалась Елена. Решение Евгения Венедиктовича, который фактически единоличным голосом вернул ей право на «состязание» и практически дал серебряный венок было для неожиданностью лишь отчасти. Уже очень давно Елена, (тогда, в те незапамятные времена годичной давности, еще не Елена, а Леночка) убедила себя, что победит любую соперницу. Это понимание пришло действительно год назад, когда на правах несмышленой гостьи, якобы державшейся за подол маменьки, она впервые попала на такое же действо Посвященных.
Даже Нилу Евграфовичу не пришло бы в голову, что неотрывное внимание юной девочки к тому, что происходит — не признак страха или волнения, а довольно холодный и относительно трезвый расчет. Она видела и подмечала все — и как мылится лавка, и где стоят «воспитатели», и как ведут себя девушки, и даже то, с какой стороны на них плескают квас прислужницы. Не знал Нил Евграфович и той маленькой тайны, что уже целый год юная Леночка сама приходит в родительские комнаты с длинными пучками тугих прутьев, иногда пугая своим появлением и маменьку:
— Ну как же, Леночка, тебя ведь только третьего дня пребольно секли!
Леночка молчала, упрямо протягивая розги и глава семейства, лишь для вида сдвинув брови, охотно принимал их для немедленного использования.
Но чтобы лишний раз не отвлекать от хлопот по хозяйству дражайшую супругу и маменьку, они с Леночкой стали все чаще проводить воспитательные часы в особой комнате. Леночка сама взяла за правило никогда не входить в эту комнату одетой — для чего пришлось выделить еще одну небольшую комнатку, где оставались ее платья и где находились запасные рубашки, сорочки и прочие вещички, которые бы тоже не нужны, не будь в доме слишком много лишних глаз. Языки вырвать-то недолго, однако Гр-ва старшая была охоча до всяких приживалок и сенных девок — плодились они в доме быстрее, чем глава семьи выгонял обратно на птичники и прочие скотские дворы…
Как мы уже просветили читателя, в эту комнату Леночка входила совершенно и безусловно обнаженной, и весь путь до ложа наказаний, сразу же после поцелуя строгой руки, обычно проделывала на коленях. В этой комнате можно было вовсе не смущаться ни слов, ни жестов, ни движений тела — более того, чем больше она двигалась, тем звонче постегивали по телу розги или короткий арапник, тем выше взлетал ее голосок в сладострастных стонах наказания.
Что и как происходило у первой четверки девушек, Елену почти не волновало. Из коротких реплик отца она поняла, что там у нее соперниц нет. Разве что победившая Машенька, но…
— Но и она… Нет, не то! — категорично подытожил попытку «оценки» глава семьи. — А вот ты…
— А ты была слишком хороша. Слишком! Что и вызвало такое недоразумение.
— Надеюсь, я буду за это примерно наказана?
— Безусловно! Но дело не в этом… Не все еще могут понять, насколько ты поднялась выше остальных и я просил тебя не демонстрировать этого слишком явно… Ты ведь понимаешь, о чем я?
— Да… Да!
Елена убрала ладони, прикрывавшие ее лоно (разговор происходил в той самой комнате и она была, как известно, обнаженной и стояла на коленках) и неторопливо скрестила их над головой. Слегка раздвинутые колени позволяли видеть все, что было нужно — но даже плотно сдвинув их, девушка не спрятала бы предательски вспухших сосков на высокой, классических форм, груди.
— Вы об этом, папенька? — вопрос прозвучал только тогда, когда она убедилась — ни возбужденное лоно, ни припухшие соски не остались незамеченными и непонятыми.
— Именно об этом, — сдержанно кивнул глава семьи.
В этой сдержанности было для Елены больше укоризны и больше вины, чем даже в «горячей порке», когда ее секли на ворохе крапивы розгами из кипящего ведра. Эта сдержанность и некоторая отстраненность лучше всяких слов говорили Леночке — ею недовольны… Она не получит сегодня ничего, кроме ненасытного наслаждения болью — ничего, ни его рук, ни губ, ни ласк…
Она знала, что такие осуждающе-холодные решения он никогда не менял, как бы ему самому ни хотелось приникнуть к этому волшебному телу, как ни звало его это тело, мечущееся под прутьями или плеткой, чтобы потом метаться в стонущих огненных объятиях. Знала, но все призывно шипела и стонала сквозь сжатые зубы, сидя на острой доске «злой кобылы»:
— Мне… не нужен… ихний… венок… мне нужны… вы… никто… не нужен… я хочу-у-у…
Лишь когда отдельные слова перешли в трудные, прерывистые стоны, а треугольник «ложа» (гм… сидения?) потемнел от влаги, на тугие бедра прелестницы наконец-то легла острая плетенка арапника…
x x xНаивный Евгений Венедиктович старался, как мог. Изо всех сил выискивая хоть какие-то причины для наказания Машеньки, как можно дальше гнал от себя мысль, что каждую субботу она идет к лавке вовсе не для того, чтобы позже встать с нее под золотой венок. Старательно поддерживая его в мысли правильного воспитания, как могла искала причины и Машенька-старшая. Захваченная вдруг непонятным чувством сплошных проступков, о которых раньше и не догадывалась, сама каялась в явных и тайных грехах Машенька. Хватало ума смолчать и Насте, салфеточками отмачивая исхлестанное тело юной барышни — да ну их, со всякими венками… совсем заполосовали девку, а тоже мне — умные, баре, по-отечески! Тьфу ты…
Но это она скорее ворчала — не так уж, чтобы и исполосовали. Отчаянно краснея и стесняясь, князь Сашенька принес Евгению Венедиктовичу где-то с корнем вырванную страницу жизнеописаний некоего гарема. В том гареме прекрасных дев секли через мокрую шелковую ткань, что не повреждало кожи — и в ближайшую субботу, прищуриваясь с непривычки, Евгений Венедиктович опустил розги вместо белого тела Машеньки на снежно-белое полотно шелка. Шелк изумительно обрисовал ее круглый зад, снежно-белым он был только на сухих краях, а мокрый на мокром на теле Машеньки, он был еще прозрачнее, как будто его не было вовсе и эта картина… гм… Она была настолько неожиданна и настолько «гм», что на этот раз уже не Машенька-старшая, а сам Евгений Венедиктович устроил супруге ночь грез и стонов, заездив свою прекрасную гурию до утомленного, радостного хрипа.