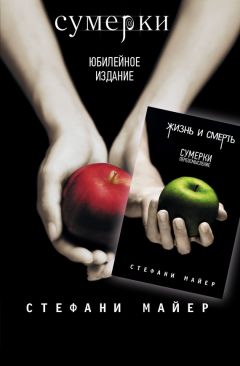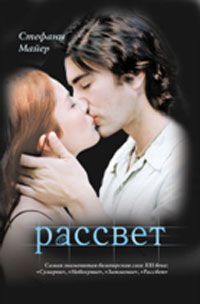Стефани Майер - Сумерки
— Где болит? — заволновалась мама. Эдвард открыл глаза.
— Ничего-ничего, — успокоила я обоих. — Просто забыла, что нельзя двигаться.
Он снова погрузился в свой поддельный сон.
Я воспользовалась моментом, чтобы сменить тему.
— Где Фил?
— Во Флориде. Ой, Белла, ты не представляешь! В самый последний момент, когда мы уже собирались уезжать, появились хорошие новости!
— Фил подписал контракт?
— Да! Как ты догадалась? С Suns[17], ты можешь в это поверить?!
— Вот здорово, мам! — сказала я со всем доступным мне энтузиазмом, хоть и не имела понятия, что это может означать.
— Тебе очень понравится в Джексонвилле, — продолжала изливаться мама, пока я с отсутствующим видом пялилась на неё. — Сначала Фил говорил об Акроне, заставил меня понервничать, там же постоянно снег и всё такое, ты знаешь, как я ненавижу холод. Но всё-таки Джексонвилль! Там всегда солнечно, правда, немного влажно, но это не так уж страшно. Мы нашли симпатичный дом, белый, с жёлтой отделкой, и крыльцо, как в старом фильме, рядом огромный дуб, и всего в нескольких минутах от океана, и у тебя будет собственная ванная…
— Мама, постой! — перебила я. Эдвард не открывал глаз, но выглядел слишком напряжённым, чтобы сойти за спящего. — О чём ты? Я не поеду во Флориду. Я живу в Форксе.
— Но в этом больше нет нужды, глупышка, — рассмеялась она. — Фил будет гораздо реже уезжать. Мы долго это обсуждали, и я собираюсь пожертвовать выездными играми, чтобы больше времени проводить с тобой.
— Мама, — я помедлила, стараясь сформулировать как можно более дипломатично, — я хочу остаться в Форксе. Я привыкла к школе, у меня появились друзья, — тут она бросила очередной взгляд на Эдварда, и я поспешила сменить тему. — Я нужна Чарли. Он так одинок и совершенно не умеет готовить.
— Ты хочешь остаться в Форксе? — потрясённо спросила она, пытаясь осмыслить это абсолютно невозможное предположение, и снова оглянулась на Эдварда. — Но почему?
— Я же сказала: школа, Чарли, — я пожала плечами. — Ай! — не следовало этого делать.
Её руки беспомощно заметались в поисках места, где меня можно было бы погладить, и прикоснулись к моему не забинтованному лбу.
— Белла, солнышко, ты же ненавидишь Форкс.
— Он не так уж плох.
Она нахмурилась, перевела взгляд с меня на Эдварда и обратно, на сей раз подчёркнуто медленно.
— Всё из-за этого парня?
Я открыла рот, чтобы солгать, но она внимательно изучала моё лицо. Врать не имело смысла — всё равно догадается.
— Отчасти да, — нет необходимости сообщать, насколько велика эта часть. — А что, у тебя была возможность поговорить с Эдвардом?
— Да, — она заколебалась, глядя на него. — И нам с тобой нужно кое-что обсудить.
Ой-ой-ой!
— Что? — спросила я.
— Мне кажется, мальчик в тебя влюблён, — заметила она тихо с обвиняющими нотками в голосе.
— Мне тоже так кажется, — вынуждена была признаться я.
— А что ты к нему чувствуешь? — ей не удалось скрыть безумное любопытство.
Я вздохнула и отвернулась. Как бы я ни любила маму, говорить с ней об этом не хотелось.
— Я без ума от него, — любая девочка-подросток могла бы сказать так о своём бойфренде.
— Ну, кажется, он довольно милый, и, боже мой, невероятно красивый. Но ты такая юная, Белла, — неуверенно произнесла она. Насколько я помню, с тех пор, как мне исполнилось восемь, она впервые попробовала заговорить со мной «родительским» тоном. Я даже услышала собственные нотки, которые появлялись в моем голосе, когда мы обсуждали её поклонников.
— Конечно, мам. Не волнуйся, это всего лишь увлечение.
— Ну да, правильно, — с какой лёгкостью она удовольствовалась этим объяснением.
Потом вдохнула и бросила виноватый взгляд через плечо на большие часы на стене.
— Тебе нужно идти?
Она прикусила губу.
— Фил должен скоро позвонить… Я не знала, когда ты проснёшься…
— Ничего, мам, — я постаралась скрыть облегчение, чтобы не ранить её чувства. — Я же не одна.
— Скоро вернусь. Знаешь, я ночую прямо здесь, в больнице, — гордясь собой, заявила она.
— Мама, ты не должна этого делать! Ты можешь уходить — я и не замечу, — обезболивающие по-прежнему блуждали в моей крови, мешая сосредоточиться, хоть я и спала, по-видимому, несколько дней.
— Я слишком нервничаю, — смущённо созналась она. — По соседству произошло преступление, дома одной жутковато.
— Преступление?
— Кто-то вломился в здание балетной студии неподалёку и сжёг его дотла! Рядом они бросили угнанную машину. Помнишь, солнышко, ты там танцевала?
— Помню, — я вздрогнула и поморщилась.
— Я могу остаться, детка, если нужно.
— Нет, мам, всё нормально, со мной побудет Эдвард.
Кажется, именно это и могло задержать её в больнице.
— К вечеру вернусь, — прозвучало не как обещание, а, скорее, как предупреждение. И произнося эти слова, она опять покосилась на Эдварда.
— Я люблю тебя, мама.
— Я тоже люблю тебя, Белла. Будь осторожнее, солнышко. Я не хочу тебя потерять.
Эдвард не открывал глаз, но на лице его появилась широкая улыбка.
В комнату торопливо вошла медсестра, чтобы проверить мои трубки и провода. Мама поцеловала меня в лоб, погладила забинтованную руку и ушла.
Сестра прочитала распечатку сердечного ритма с монитора.
— Тебя что-то встревожило, детка? Вот здесь частота сердцебиений немного выше.
— Всё в порядке, — заверила я.
— Пойду, скажу твоему ординатору, что ты проснулась. Она скоро будет здесь и посмотрит тебя.
Как только она закрыла дверь, Эдвард оказался рядом со мной.
— Ты угнал машину? — я приподняла бровь.
Он улыбнулся, нисколько не раскаиваясь:
— Отличная была машина, шустрая такая.
— Как спалось? — спросила я.
— Было интересно, — прищурился он.
— Что именно?
Он потупился, отвечая на вопрос.
— Я удивлён. Думал, Флорида… и твоя мама… ну, я думал, ты именно этого хочешь.
Я непонимающе уставилась на него.
— Но во Флориде тебе пришлось бы днём сидеть дома и выходить на улицу только по ночам, как настоящему вампиру.
На его лице мелькнула и померкла улыбка.
— Я останусь в Форксе, Белла. Или в любом похожем месте. Там, где я больше не смогу навредить тебе.
Сначала до меня не дошло. Я беспомощно смотрела на него, пока его слова складывались в моей голове одно к одному, как в некой зловещей мозаике. Я едва осознавала, что сердце ускоряет свой ритм. Всё, что я чувствовала — это боль, бьющаяся о мои протестующие рёбра. Он молчал, с опаской глядя мне в лицо, пока боль, не имеющая никакого отношения к переломанным костям, гораздо более страшная, угрожала окончательно разрушить меня.