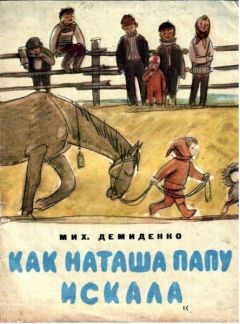Бобби Хатчинсон - Возрождение любви
– Это такой клеющийся материал… – Она еще теснее прижалась к нему. – Ты просто прикладываешь их друг к другу.
Она вздохнула и утонула в сне.
А ребенок внутри ее все время копошился.
Его ребенок. Он положил ладонь на низ ее живота.
Знай, что я люблю тебя, дорогой мой ребенок. Знай, что у тебя есть отец, который любит тебя и любит твою мать.
Он держал ее в своих руках, вкушая ее дремоту, двигаясь, когда двигалась она, чтобы ей было удобно лежать, обнимая ее, когда ее дыхание успокаивалось. Он держал ее, пока луна не пошла на ущерб и не забрезжил рассвет. Он оперся на локоть и внимательно рассматривал ее сонное лицо при сероватом свете утра.
Черные кудри, непослушные, как ветер в прерии, разметались по подушке. Золотистая кожа с пунктиром веснушек поперек прямого носа. Глубоко посаженные глаза, зеленые, как первая весенняя трава. Длинные, загнутые кверху ресницы с золотыми от солнечного света кончиками, темные у основания.
Упрямый подбородок. Широкий розовый рот, спокойный во сне, рот, чьи очертания он знает так же хорошо, как свой собственный, поскольку исследовал каждый его дюйм своими губами и языком.
Его женщина. Его жена. Вся его жизнь.
Ему была ненавистна сама мысль, что надо ее будить, но солнце уже встало.
Он наклонился и поцеловал Пейдж в губы, и, прежде чем ее глаза открылись, ее руки обняли его и прижали.
– Я люблю тебя, Майлс.
Этот сонный шепот чуть не разорвал ему сердце.
Позднее этим утром на подступах к индейской деревне они попрощались. Тананкоа вышла встретить Пейдж и стояла на деликатном расстоянии в ожидании; сын ее был надежно привязан к спине.
Они поцеловались раз, другой, третий, они ни о чем не говорили, но, когда наступил момент расставания, Пейдж утратила контроль над собой. Она повисла на нем, слишком опустошенная, чтобы плакать, ее руки дрожали, обхватив его шею.
– Я не могу, Майлс, – неистово прошептала она. – Я не могу оставить тебя!
– Можешь. Должна. Будь мужественной, любимая! – Он положил руку ей на живот. – Поцелуй нашего сына от моего имени, ладно? Я увижу вас обоих, когда вы вернетесь весной.
Он достал из кармана кожаный мешочек с завязкой и повесил ей на шею поверх медальона, который она всегда носила. Тяжесть мешочка удивила ее.
– Ты однажды говорила мне, что деньги, которыми мы пользуемся, отличаются от денег твоего времени, но золото всегда в цене. Здесь золотые монеты – для тебя и нашего ребенка.
Его предусмотрительность, его спокойная уверенность проникли ей в душу, и она успокоилась.
Он помог ей слезть с двуколки и трогательным жестом взял ее руку и вложил в руку Тананкоа.
Он отдал им честь и улыбнулся так, словно оставлял ее в гостях у Танни на день и вечером приедет и заберет ее.
Он сел в двуколку, взял в руки вожжи и поехал по плохо различимой дороге по траве прерии. Пейдж смотрела, как очертания его головы и плеч становились все меньше, силуэтом на ярко-синем фоне утреннего неба.
Обряд должен был состояться на закате солнца. Весь день Пейдж готовилась к нему и спала.
Ее провели в палатку, где Тананкоа помогла ей выкупаться, после чего ее тело натерли ароматным маслом. Ее одели в свободную белую блузу из оленьей кожи, достигающую колен, удобную, мягкую одежду, которая совершенно не вязалась с потертыми кроссовками на ее ногах. Майлс утром надел ей их.
– Они принесут тебе удачу, – сказал он. – Они привели тебя ко мне и вернут благополучно обратно.
Перед Пейдж поставили большую миску мяса. После этого ей показали кучу бизоньих шкур и сказали, чтобы она отдыхала. Она настолько разнервничалась, что не в силах была даже прилечь, пока Танни не дала ей выпить горьковатого на вкус чая. Должно быть, в нем содержался наркотик, потому что Пейдж после него проспала до конца дня.
Она чувствовала себя какой-то заторможенной и плохо ориентировалась, когда Танни вывела ее и десять других женщин из деревни на дорогу. Эта длинная извилистая дорога по жаре, как показалось Пейдж, вела через безжизненную прерию. Женщины тихо переговаривались между собой.
Солнце уже садилось, когда они дошли до большого круглого котлована. Хромая Сова сидела, скрестив ноги на одеяле, в самой глубокой части котлована и жестом показала Пейдж, чтобы та присоединилась к ней. Одеяло лежало в центре круга, четко выделяющегося в высокой траве прерии, диаметром в восемь футов. Внутри круга виднелся треугольник, и дрожь узнавания пробежала по спине Пейдж.
Это была точная копия того круга в пшенице, который послал ее сюда два долгих года назад.
Неуклюжая из-за беременности, Пейдж села рядом с Хромой Совой, стараясь найти положение поудобнее, мешочек с золотыми монетами оттягивал шею.
Хромая Сова стала учить ее.
– Загляни в свою душу и увидь мир, в который ты хочешь уйти. Убедись, что там дверь, и, когда придет время, пройди в нее.
– Но как я буду знать? – Пейдж почувствовала всю смехотворность этой ситуации и одновременно страх. Она, уже будучи на сносях, распласталась, как лягушка, внутри этого треугольника и круга.
Хромая Сова посмотрела на нее с отвращением.
– Доверяй своим чувствам.
Пейдж дотянулась и дотронулась до рукава старухи.
– Я должна точно знать, что мне нужно будет сделать, чтобы вернуться обратно сюда. Хромая Сова, ты должна вернуть меня сюда. Обещай мне, пожалуйста!
Лицо у старухи оставалось ласковым и бесстрастным, она пожала плечами характерным для нее жестом.
– Это боги решают, кому приходить и уходить.
– Но скажи мне по крайней мере, что мне делать.
Хромая Сова начала раздражаться.
– Весной, когда солнце снова пригреет, найди такие ворота и сядь там, как сидишь сейчас, – выпалила она. – Определи время и место, будь уверена, что там есть дверь.
Пейдж чувствовала, что не может доверять ей.
– Но на этом конце ты поможешь мне вернуться сюда? Пожалуйста!
Хромая Сова сердито глянула на нее.
– Я дала слово. Я сделаю то, что сказала. А теперь успокойся, загляни в себя.
Хромая Сова встала и вышла из круга.
Женщины взялись за руки, и Хромая Сова запела гортанный, монотонный напев, они ей вторили.
Солнце садилось за горизонт, оно висело там огненным шаром, медленно уходя за горизонт.
Пейдж старалась делать то, что говорила ей Хромая Сова, но чувствовала себя неуютно. Она закрыла глаза и мысленно представила себе календарь, который всегда был на столе в ее кабинете, и она красным фломастером отмечала день, год.
Ничего не происходило. Она слышала пение женщин, ощущала дневной жар. Легкий ветерок иногда обдувал ее потный лоб.
Время шло, и страх понемногу уступал место скуке. Ее тело начало побаливать от сидения на жесткой земле. Какое это было безумие с ее и Майлса стороны думать, что суеверные туземцы способны осуществить что-то вроде путешествия во времени.