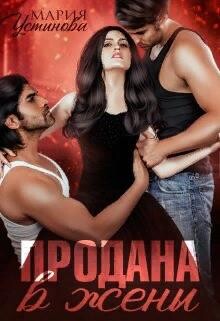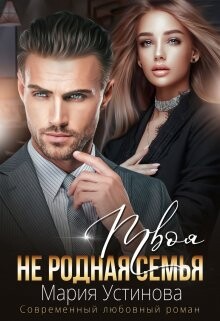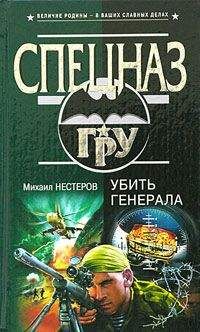Рабыня Рива, или Жена генерала (СИ) - Устинова Мария
Потому что здесь меня не так сильно ждали, как ждала я.
– Мама, – прошептала я и остолбенела.
Это несомненно была она… Но уже другая. Старше, с другой прической, другим выражением глаз. Они поразили меня больше всего – настороженные и чужие. Мама фальшиво улыбнулась.
– Рива! – она обняла меня, но аккуратно, как чужую.
Прежняя близость куда-то улетучилась. Это от неожиданности, точно знаю. Потому что мы еще не привыкли друг к другу, к тому, что я свободна. Наверное, она тоже никак не может привыкнуть.
Мамино платье на спине натянулось. Я ощущала под ладонями ее тепло – как в детстве, но такого же чувства не возникло. Я испугалась, неужели все ушло? Я взрослая, мне так хотелось нырнуть туда, в прекрасные детские воспоминания, когда мы были вместе и не случилось плохого. Неужели нас разлучили не только физически, но и духовно – навсегда?
– Мама! – из домика выбежал мальчик и остановился, увидев, что мы обнимаемся. Лет пять-шесть. Мой брат? Я никогда о нем не слышала, даже не знала. – Отпусти маму! – возмутился он.
Я осторожно убрала руки и только теперь под просторным платьем увидела округлившийся живот. Я крепче сжала руки и зажмурилась. Мама… Больше не моя. Дважды не моя.
– Рива, – приветливо повторила она. – Я так счастлива, что ты здесь! Вот папа увидит…
Она спрятала глаза и вернулась в беседку – заканчивать приготовления.
– А где твой муж? – скованно спросила она, и у меня упало сердце.
Тон, взгляд, мама, конечно, меня рада видеть, но дело еще кое в чем. В моем муже. В том, что я жена чужеземца.
Это ведь не по доброй воле. Не потому, что я полюбила генерала Эс-Тиррана и вышла за него, наплевав на наши традиции. Я это сделала, чтобы освободиться.
С момента своего замужества я не думала об этой проблеме. Я теперь его жена. Пусть фиктивно, не по настоящему, но на Иларии такие браки не в почете.
– Рива, – позвала мама за стол.
Сына она загнала в дом и теперь сидела и улыбалась. До меня дошло, почему так тихо, почему никто не встретил меня. Хотели решить по-семейному, а не публично, потому что родители не хотели огласки.
Она налила мне чаю в белую чашку – я таких не помнила. Чай был красноватый: с лепестками сонницы и маковника. Сладкий, обжигающий дурман, дающий мгновенное успокоение. Только не мне. Мои раны травами не залечишь.
Мама устало опустилась напротив – себе ничего не взяла. Хотя в ее положении не повредит. Ей нельзя нервничать.
– Мам, а что говорят про… – я не сразу нашла, как продолжить.
Мне казалось, это должно быть событие – мое возвращение.
Нас угоняли в рабство тысячами – это не прошло бесследно. Официально пусть не было национального траура, но десять тысяч семей потеряли детей. Неужели никто не придет, не спросит у меня о них? Никто не порадуется, что хотя бы я вернулась? Я живое свидетельство тех горьких времен.
– Мама, что говорят про нас? – решилась я. – Никто не вспоминает… Не ищет выходы, чтобы забрать нас обратно?
Я все еще говорила «нас», потому что сердцем осталась там, по ту сторону линии фронта. Мама горько смотрела на меня.
– Рива, к чему бередить раны? – тихо спросила она. – Ты вернулась и я счастлива. Но какой ценой, дочка? – она наклонилась и сжала руку. Волосы выбились из-под косынки – точь-в-точь, как мои. – А другие дети не смогут вернуться. У нас теперь…
Она почему-то замолчала, рассматривая гуляющий под ветром маковник.
– У нас не принято вспоминать поражение, – закончила она через силу. – В день окончания войны праздник устроили, а день капитуляции, будто не было его. И будто детей не угоняли… – мама взглянула мне в глаза. – Никто вспоминать не хочет. Будь надежда, мы бы надеялись, ждали. А ее нет, Рива, они не вернутся. Вот мы и не хотим вспоминать…
– Мама! – я не смогла найти слов, меня переполняли чувства. – Мама, мы тоже ждали! Мы только об этом и думаем, да я… Я была готова на все, чтобы вернуться.
– Знаю, – вздохнула она. – Но восемь лет, это долго, Рива. Ты молодая, еще не понимаешь, – она нахмурилась, и на темном лице появились тени, а между бровями – суровая складка. Видно, что за годы эта морщина стала привычной, хотя раньше ее не было. – Иногда проще забыть, чем есть себя всю жизнь. Проще малым пожертвовать, чем всем.
Она кивнула на дом, где прятались дети.
– Вот, мне их надо на ноги ставить. А как? Скажи мне? Папа поле уберет, кто возьмет у нас урожай? Кто ссуду даст? – она наклонилась, сцепив на столе натруженные руки. – Кто даст кредит на новые семена для следующего года? Кто, если наша дочь живет с григорианцем... Замуж вышла!
– Мама, – пробормотала я, чуть не плача.
– Что мама? Прости… Ты знала, что браки с чужими – табу.
– Ма… – я осеклась на полуслове. Что ей докажешь? – А где папа? Он придет?
– Придет, – вздохнула она и опустила глаза, пальцы гладили хорошо струганные доски стола. – Конечно, ты все же наша дочь, чья бы ни была жена.
– А не потому ли она моя жена, – раздался за спиной вкрадчивый голос генерала. – Что твоя страна продала ее?
Я резко обернулась: Шад стоял за спиной, на полпути к беседке. В окне маячили лица детей – им было интересно посмотреть на григорианца.
– На ваш вопрос я не отвечу, – мама сердито смотрела в стол.
У меня екнуло сердце, стало страшно – над столом повисло напряжение, густое и тяжелое, как перед боем. Я не хотела ругаться. Не хотела этих взглядов, осуждения, придирок, не хотела слышать, что не права….
А больше не хотела убедиться, что пошла на все зря – взамен ничего не получила, кроме упреков. Родная семья отвергает.
– Не злись, – умоляюще сказала я. – Пусть дети выйдут, ничего не случится, мам. Прошу, давай хотя бы вечер побудем вместе.
– Прислушайтесь к дочери, – резко сказал генерал. – Завтра мы улетаем.
После этих слов мама подобрела. Едва заметно, но успокоилась, и мое сердце окончательно провалилось в пропасть.
Я лишняя. Лишняя дочь, ненужное напоминание о стыде и провале своей страны, позорное – черное, рабское пятно на белоснежных одеяниях общества. И оно больше ничего не хотело обо мне знать, вычеркнув вместе с позорными страницами истории.
Моя семья сделала то же самое. Без меня всем жилось лучше.
Папа пришел под вечер. Уже собиралась темнота, багровые тучи вот-вот были готовы пролиться дождем. Снял шляпу, выбил об колено от пыли. Его волосы топорщились во все стороны – он работал в сушилке. Влажность, потом жара – волосы от этого портятся, а еще кожа, руки. Даже глаза, казалось, становятся водянистыми в окружении темного, будто прокопченного лица, покрытого морщинами.
Я любила папу.
Но ждала его с замиранием сердца. Как он меня встретит?
– Разбойница, – он неожиданно подмигнул, потрепал по голове и крепко-крепко обнял, косясь на Шада. Тот бродил по заднему двору, судя по всему, ему не нравилось здесь, но и оставить меня одну он почему-то не хотел. – Все будет нормально! Как дела? Скучал страшно!
– Хорошо, – я глупо улыбнулась.
Папа вел себя так, словно мы расстались на пять минут, а не на восемь лет. И я ходила погулять в парк, а не была в рабстве. Что хуже – мамина прямота, или деланая беззаботность, не знаю. Одинаково жестоко.
Мы ужинали в тишине. Папа перекинулся парой слов с мамой, спросил о самочувствии. Спросил меня о планах, мама молчала, у нее дрожали руки. Детей она так и не выпустила из дома. Генерал Эс-Тирран ходил по саду и нетерпеливо ждал, пока мы закончим.
Я едва терпела. Мне хотелось вскочить, убежать и расплакаться в укромном уголке. Этот фарс делали для меня, но я хотела другого. Близости, тепла – хотела получить обратно свою семью. Только ее не было. Когда-то ее уничтожили приклады солдат, отбившие меня у родителей. Не всем дано такое пережить, и не все с этим справятся.
– Спасибо, – искренне поблагодарила я за ужин. – Мама, папа, наверное, я сегодня вернусь на корабль. Не хочу вас стеснять.