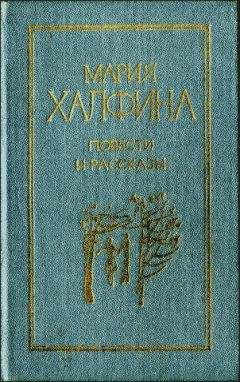Марина Суржевская - Тропами вереска
Я ткань тронула, пальцами по лентам пробежала. Темное все, как и просила, коричневое и болотно — зеленое, ни одного светлого пятнышка. По лесу в белом платье ходить — зверье веселить. А так добротно, и пачкается меньше. Но и темное полотно — красивое. Грубое, а мягкое — знать, Аришка ткала, есть в деревне мастерица. Я за ней наблюдаю порой: хорошая девка, с косой до пояса, веселая. Песни поет так, что пичуги замолкают, слушают. И ткань у нее добрая выходит, душевная, не колет нигде, а любая обновка ладно сидит и долго носится. Хороший выбор служитель сделал, и здесь почуял, значит…
К тканям лент принес, нитки всякие. Одна катушка особенно ценная — тонкая, ниточек мало совсем, потому как красные они, словно кровь. Такими духов хорошо привязывать или смерть заговаривать. Но не о том сейчас.
Я прислушалась: Ильмир на пороге сидел и клинок свой снова начищал. Есть не попросил — похоже, служителя в деревне накормили. Видать, совсем тошно ему на ведьму смотреть… Да и к лучшему: отвлекать меньше будет да любопытничать.
Вытащила я ткани полотно, расстелила на досках, так чтобы луч месяца попадал, светом напитывал. Луна была молодая, только в рост вошедшая — самое время, чтобы обнову шить. Так что я Саяну любопытную прогнала, свечу зажгла зеленую, с соком древесным, да бурую — с силой земли. Разрезала ткань и сшивать начала. Что ни стежок, то узелок — науз, что ни слово, то оберег ведьминский. Мне в этом платье долго ходить, землю мести, так пусть бережет пуще брони, за коряги не цепляется, от людей скрывает, в холода греет. Сшивала крепко, без всякой искусности, о красоте не задумывалась. Только по вороту красной нитью узор пустила, силой и кровью скрепила заговор, чтобы уж наверняка, и узлами завязала.
Ильмир не появлялся, хотя слышу— не спит, бродит вокруг сторожки, вздыхает. Я же все прибрала, лоскутки и ниточки собрала и в сундук заперла. Когда закончила, Тенька спала уже под лавкой, да и Саяна задремала. Обнову я расправила и за дверь вынесла, чтобы ночной прохладой закалилась и зарей согрелась, вот тогда и надевать можно будет.
Служитель за спиной остановился.
— Скажи, ведьма, — сквозь зубы от того, что с вопросом ко мне обратился, выдавил он. — Не знаешь, где в этих краях девушка живет… С волосами, словно шкурка красной лисицы, и глазами голубыми…
Я помолчала, радуясь, что против света лунного стою и не видно, как опешила. Ильмир нахмурился снова, глазами даже во тьме сверкнул.
— Не деревенская она. Может, за лесом живет? В Пустошах? Или в замке есть такая? Вдруг в лес заходила, и ты видела?
— Зачем она тебе? — прокаркала я.
Служитель вздрогнул, шагнул ближе, в лицо мое всматриваясь. И с такой надеждой, что даже я попятилась.
— Нужна. Нужна, ведьма! Видел я ее…
— Видел? Почудилось, может? На солнышке перегрелся? — усмехнулась я.
— Видел! — твердо сказал он и добавил еле слышно. — Во сне… Но только сон непростой был, я знаю. А сегодня в деревне мальчишка о ней рассказывал, говорит, из леса его вывела эта девушка… А дядьки его где-то в чаще затерялись… Так ты знаешь, кто она?
Он шагнул еще ближе, голову склонил, смотрит. Я губами пошамкала, носом дернула и оскалилась. Так служитель сразу отшатнулся. Вот так-то лучше будет.
— Может, и видела, может, и нет, — протянула я.
— Скажи! — он снова дернулся ко мне, кулаки сжал. В глазах пламя полыхает, и сила вокруг мужчины вихрем вертится. Я посмотрела задумчиво, силушку погладила, словно злющего пса, чтобы не ярилась, оттолкнула.
— Много хочешь, служитель, — прокаркала я. — Ты уж определись: то ли Омут тебе нужен, то ли девушка. Или ты из тех, кто все и сразу гребет, ничего отдавать не желая? Не бывает так.
Я расхохоталась и к порогу пошла. А служитель разъярился, схватил меня за плечи, развернул, наклонился так, что чуть ли носом уткнулся.
— Скажи, кто она! — рычит зверем. — Скажи, ведьма! Что хочешь за ответ, отродье? Назначай плату! Мне уже все равно…
И плечи мне сжимает так, что чуть кости не трещат, больно. И не побоялся к ведьме прикоснуться, ручки запачкать…
— Ничего я тебе не скажу, прихвостень, — оскалилась я. — Соврала. И мальчишка тот соврал. Не знаю ничего о девушке, никогда в моих лесах такой близко не было. А может, и на всей земле!
Мужчина еще постоял, в лицо мне заглядывая, а потом скривился и отпустил.
— Она есть. И я ее найду, — сказал тихо и пошел в дом.
А я у коряги встала, закинула голову к небу. Дурак служитель. Ту девушку искать — что лунный свет ловить. Рядом, а никогда не поймаешь…
* * *Кроме того, что я указала, Ильмир еще и для себя кое-что прикупил. Два одеяла, тюфяк, сеном набитый. И устроился в углу почти по-человечески, так что я от досады зубами скрипнула.
— И откуда у служителя светлого Атиса столько наглости? — поинтересовалась я, глядя, как он лавку в сторону отодвигает, чтобы ногами не упираться.
— С ведьмой жить — по ведьмински выть, — буркнул он. Я понаблюдала, как он одеяло расправил, сапоги снял, рядышком поставил. Сутану свою на лавку сложил и устроился на тюфяке, вытянулся, вздохнул устало. То и понятно: целый день на ногах, да еще после горячки ночной, до сих пор в красных пятнах весь.
— Ну, раз по — ведьмински, — хмыкнула я, — так вставай, служка, хватит разлеживаться, бока мять. Обман— трава одну ночь цветет, успеть надо. А то без нее мне несподручно людей в овраги заманивать и в болотах топить.
Он зыркнул злобно, зубы сжал, видимо, чтобы не сказать все, что думает. Я даже ближе подошла, чтобы ничего не упустить. Но нет, сдержался.
— Догонишь, — бросила я, прихватила клюку и вышла.
Ночь хорошая выдалась, ласковая. Месяц мне дорожку устелил, узор выткал столь искусный, какой ни одна мастерица не сможет. Я по узору тому как по ковру шла, улыбалась. Люблю такие осенние ночи: и не холодно еще, и кожух греет, и тихо так. Лес спокойный нашептывал что-то, но я не прислушивалась, о своем думала.
Ильмир меня догнал, пошел молча рядом. Пару раз ветви его хлестануть пытались — все же не привык лес, чтобы со спутником я шла. Передо мной раздвигались, а вот служителя не жалели. Правда, уворачивался, паршивец. Так до озера и дошли.
Я постояла, водяниц приветствуя, духов озерных. Да и просто полюбовалась. Вода гладкая, словно зеркало, в ней второй месяц дрожит. Настоящий и отраженный, близнецы — братья, вечно друг с другом в красоте соревнуются. На небе звезды хоровод водят, в воде — рыбешки золотые блестят. Сверху месяц тонкий еще, а братец его уже налился — торопливый он, вечно хочет вперед небесного успеть.
Насмотревшись, я на колени встала, подол подоткнула за пояс, чтобы не мешал. Обман — травка мелкая, устилает бережок белыми звездочками, с полмизинца всего. А корешок глубоко, на пару локтей в земле, да тонкий, хрупкий. А один надрез сделаешь — силу потеряет. Вот и приходится тянуть его ручками, да еще упрашивая и уговаривая, задабривая словом, убаюкивая песней. Мужским рукам я такую работу не доверю, конечно, но вот грубую колючку нарвать — с удовольствием. Я кивнула служителю на заросли.
— Собирай, чего уставился? И не вздумай клинок свой достать, служка! Травы сталь не любят…
И отвернулась, склонилась к земле, разрывая первую ямку. Земля стылая, но еще морозцем не схвачена, хотя пальцы вмиг скрючило от холода. Благо у меня не ногти, а почти когти звериные — твердые и острые. Потому что завтра белые звездочки закроются. И хорошо, что Северко прогнала, а то помню, собирала как-то обман — травку под снегом, на ощупь, ногтями замерзшую землю колупала. Но и без травки этой никуда. Та же Аришка — мастерица уже в сырой земле лежала бы, если бы не настойка из корешков. Потому как белые звездочки саму Смертушку обмануть могут, отвести в сторону… Потому и обман.
Служитель за спиной шипел сквозь зубы, ругался, глупый. Не знает, что к живому надо с добрым словом идти, тогда и колючки не жалят. А так лишь шипы острее становятся, с каждым словом злым еще одна вырастает. Но просвещать я мужчину не стала. Задумалась, песенку под нос свой длинный напевая. И вдруг закрылась звездочка, до корня которой я почти добралась. Я вскочила, глаза прищурила, думала, загрызу дурака.
— Сказала же, сталь убери! — рявкнула я. Вскинула свою клюку кривую, и клинок вылетел из рук мужчины, звякнул в кустах. — Убери в ножны, недоумок! Кровь убитых на ней и души неушедшие! — ярилась я.
Служитель метнулся, клинок подобрал, спрятал. Зато кулаки сжал.
— Нежить… Изыди, нечисть… — и молитву забормотал, голову дурную солнцем осеняя.
Я-то думала, что это он обо мне снова, так нет. Привлеченные голосом мужским водяницы на камушки выползли. Волосы — тину по спинам распустили, глазами бездонными смотрят, улыбаются, поганки. А что, красивые они, хвосты рыбьи с сиянием месяца спорят.
— К нам иди, к нам, — шепчут служителю и руки белые тонкие тянут, — приголубим… обласкаем…